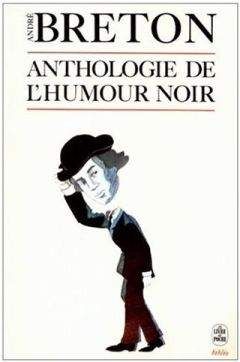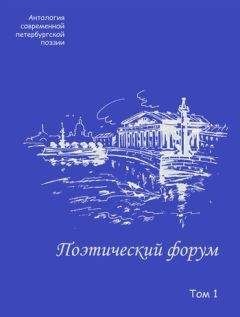— Деда, деда, кусьнинька! — лепечет малыш, уже вымазавший фамильным кремом свои пухленькие щечки.
— А бабушку помнишь, радость моя?
Малютка задумывается; в годовщину смерти этой почтенной матроны обычно готовят рисовый пудинг, приправленный экстрактом из тела покойницы; примечательный факт: при жизни от старушки за версту разило нюхательным табаком, тогда как после смерти она источает восхитительный запах флердоранжа.
— Баба! Ням-ням!
— А кого бы больше любишь, солнышко, бабушку или дедушку?
Как и все ребятишки, которым подавай то, чего сейчас нет, ребенок, вспоминая давешний пудинг, мямлит, что больше ему по вкусу все же прародительница, — однако тянет тарелку за дедовской добавкой.
Боясь, как бы избыток сыновней любви не наделал чаду вреда, предусмотрительная мамаша приказывает унести крем.
Что за восхитительная и трогательная сценка из семейно жизни! — подумал Жак, протирая глаза. И, вспоминая пронесшиеся в голове образы, спрашивал себя, а не привиделось ли это все ему во сне, пока он клевал носом над журналом, где в колонке о достижениях науки так замечательно написано об открытии птомаинов. [...]
ТРИСТАН КОРБЬЕР
(1845-1875)
Вся ширь моря (как писали о его стихах), но прежде всего брызги ночных волн на прибрежных рифах, роковая женщина; но не только море, а еще и деревенские пустоши, видевшие рассвет времен, где звук шагов будит древние предания, свернувшиеся клубком под корнями дикого кустарника, задевает обрывки видений на его колючках и за поворотами извилистых тропинок; скупые волхвования вкруг старинных изваяний и поклоны тысячелетним камням, трещины которых словно складываются в скупо прорисованные лики этих заступников, бретонских святых: из всего этого и соткан тот пергамент — во многом схожий с картой вдохновения Жарри, — по которому хаотичными проблесками тянется вязь стихов Корбьера. Эгоизм бодлеровского денди становится у него безысходным одиночеством духа, стынущего в тени роскофского погребального склепа, где Корбьер, еще с детства чудовищно изуродованный параличом — моряки прозвали его an Ankou, смерть, — так любил бродить со своим псом, носившим то же имя, что и он сам, Тристан. Это противостояние физической ущербности и поразительной душевной чуткости неизбежно превращает юмор Корбьера в своего рода защитный рефлекс, а его самого приводит к систематическим упражнениям в так называемой «безвкусице». Он наряжается матросом, закатав штанины, так, что голые ноги болтаются в колоколах бездонных ботфортов, прибивает высушенную жабу в простенке своего камина наподобие магического талисмана и с издевательским «Мое сердце у твоих ног!» бросает к ногам своей возлюбленной еще трепещущее баранье сердце. Но с какой восхитительной простотой он обставляет волшебный ритуал обольщения для другой, мимолетной красавицы, которую он полюбит в 1871 году и которую необъяснимым образом заставит полюбить себя. Наверное, именно с его «Кривой любви» и начинается во французской поэзии спонтанное словотворчество; все говорит о том, что Корбьер первым отдался во власть тех словесных волн, что денно и нощно шумят у нас в головах не сдерживаемые никаким сознательным принуждением, и которым здравый смысл тщетно пытается противопоставить дамбу сиюминутной рассудительности. Да и можно ли усомниться в этом, когда вспоминаешь его выстраданное: «Я говорю нутром». Все те возможности, которые открывает игра словами, используются им без разбора и стеснения, — прежде всего каламбур, вовсе не призванный, как и позже у Нуво, Русселя, Дюшана и Риго, «потешить публику», а временами преследующий и прямо противоположные цели: когда Корбьера уже почти при смерти принесли в заброшенный деревенский дом, он пишет матери: «Домик у меня уютный, деревянный — из таких поленьев, верно, делают гробы».
Сон! Вслушайся: к тебе я обращаю слово.
Сон, балдахин для тех, кто не имеет крова!
То, словно Альбатрос, ты кружишь с ураганом,
То мнешь ночной колпак почтенным горожанам!
Друг неученых дев, не тронутых изъяном,
И выручка — иным, в ученье слишком рьяным!
Нежнейший пуховик, отрада голоштанным!
На жертву палачом накинутый мешок!
Фланер и сутенер! Всем ходокам ходок!
Ты — край, где и немой вещает как пророк!
Ты — рифма звонкая! Цезура среди строк!
Сон, серый волкодлак! Сон, дыма черный клок!
В душистых кружевах игрушечный волчок!
Сон, первый поцелуй и ласка прежней милой!
Вихрь, то улегшийся, то вновь набравший силы!
Сон, тонкий аромат надушенной могилы!
Карета Золушки, что мчит дорогой темной!
Затворниц и святош ты духовник нескромный!
Пес, ты ползешь лизать текущую с решет
Кровь жертв, которых смерть в своей давильне мнет!
Смех, что вымучивают, втайне боль скрывая!
Сон ровный, как пассат! Сон, дымка заревая!
Надбавка за труды и грубое Мочало,
Чтоб в Кухне Бытия кухарка жир счищала!
Сон, ты — на всех одна вселенская тоска!
В ничто и никуда несущая река!
Сон, ты — подъемный мост! Ты — ход из тупика!
Сон, ты — хамелеон, одевшийся в светила!
Сон, призрачный корабль, расправивший ветрила!
Вуаль-ревнивица, что незнакомку скрыла!
Паук Тоски, сплети мне свой покров унылый!
Награда и предел, судьбу венчаешь ты,
Упокоение последней нищеты,
Заветный слушатель непонятой мечты,
Укрытье для греха, приют для чистоты!
В тебе и ангела, и дьявола черты!
Сон, тысяч голосов безгласнейший носитель!
Сон, расточитель тайн, былого воскреситель,
Ежевечерний «Век», «Калейдоскоп» и «Зритель»!
Источник Юности, заветная Обитель!
Сон, ненасытную ты насыщаешь страсть,
И бедная душа, одну лишь зная власть,
Спешит к воде твоей живительной припасть.
Ты сматываешь нить, на чьем конце висели
Жандармы грозные, коты, Полишинели,
Бедняга-музыкант с его виолончелью
И лиры немощных, что трели не пропели!
Сон, царь и властелин! Ты — бог моей подруги,
Мне изменяющей с тобой, тысячерукий!
Сон, веер жарких ласк! Купальня сладкой муки!
Сон, честь карманника! Цветенье на погосте!
Сон, лунный свет слепцам! Сон, выпавшие кости
Продрогшим до кости! Сон, снадобье от злости!
Веревка смертника на шее у Земли!
Гармония для тех, в ком слуха не нашли!
Сон, беспримерный враль, мели себе, мели!
Соломинка для всех, кто вечно на мели!
Для тех соломинка, кто выплывает едва ли!
Волшебный ключ к дверям, откуда в шею гнали.
Всем кредиторам нос, а также прочей швали!
Сон — вроде ширм от жен: чтобы не приставали!
Сон, каждому из нас ты воздаешь сторицей:
Девица для солдат, солдатик для девицы!
Мир мировых судей! Полиция полиций!
Ты — флокса чашечка, готовая раскрыться!
Сон, искушение в тебе и власяница,
Мель — острому уму и глубина — тупице!
Подвальное окно! Неяркий луч в бойнице,
Упавший к нам на дно безжалостной темницы.
Так вслушайся же, сон! Связующая нить
Неверных сумерек меж Быть или не Быть!..
(Пер. Б. Дубина)
Даже самый гибкий ум не без труда сумел бы сопоставить юношу двадцати одного года с лучащимся смехом и глазами ясновидца, немедленно ставшего другом Рембо — обгоняемый гнусными слухами, тот приезжает в Табуре, каждый старается дать ему понять, что он здесь никто; Нуво в порыве безграничного восхищения бросается ему навстречу и уже назавтра они отплывают в Англию, — и пятидесятилетнего нищего — старика, сгорбившегося на паперти церкви Христа-Спасителя в Эксе и получавшего каждое воскресенье пятифранковую монету от направлявшегося к обедне Поля Сезанна. Но это стороны одной жизни, и объединяет их прежде всего безоговорочный нонконформизм.
«Автор "Валентинок" не был упрямым спорщиком, — говорил его друг Эрнест Делаэ, — скорее он был исполнен духа какого-то спокойного противоречия, не чуждого улыбке или даже беззлобной иронии. Происходило это от его извечной потребности мыслить, переворачивая все "с ног на голову", от неизменной склонности отыскивать что-то новое в хорошо известном. Простое было для него противоположностью того, что говорит и делает большинство людей».