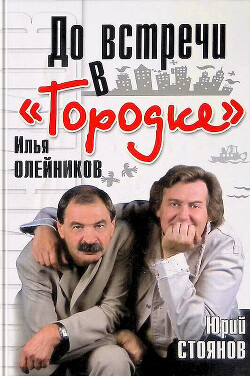Перед моим взором, величаво покачиваясь, медленно проплыла Колыма. И пока генералы соображали, что к чему, я закрыл собой Чумакова и прогремел артиллерийским раскатом:
— Любимое произведение вождя Коммунистической партии — бурлацкая песня «Дубинушка»! Исполняет хор. Солист тот же.
И выразительно посмотрел на хор. Даже более чем выразительно.
Хор, стоявший за нашими спинами и уже мысленно прощавшийся с семьями, облегченно вздохнул и гаркнул «бурлацкую».
— Но почему? — удивился совсем уже было успокоившийся Чумаков.
— Но потому! — процедил я. Тут уж было не до субординации.
Больше, к счастью, проколов не было. Концерт бравурно прикатил к финалу. Прозвучал последний аккорд, и на сцену вышел комдив. Находясь в таких непривычных для него условиях, он с трудом подбирал слова.
— Бойцы! — сказал он, но вспомнив, что в зале находятся и женщины, добавил: — И ихуи верные жены! Сегодни на территории Дома офицеров состоялси настоясчий народный праздник. Силам и дивизии наши талантливые самовыродки изобразили нам здесь искрометное мастерство. И позвольти от имени всех, находящих здесь, поблягодарить замечательный ансамбль военных солистов за причиненным ими концерт и от лица всего гарнизона выместить бляго-дарность за ихуе мастерство, ихую работоспособность и ихуй прекрасный рэпертуар.
Чумаков сиял, как галогенная лампа. Шухер пошел. «Мечтинка» осуществилась.
— Поедешь в отпуск, — сказал он. — Куда оформлять?
— В Сочи, — попросил я. — У меня там женщина.
— В Сочи не могу, — отрезал Чумаков. — Или в Москву, откуда призывался, или в Кишинев, к родителям.
— Ладно, — сказал я, — давайте к родителям. В Сочи я контрабандно слетаю.
И стал готовиться к нелегальному отъезду. И вот пришел долгожданный день, и старенький толстопузый «Ан-10», поскрипывая и попердывая, помчал меня навстречу очередному приключению. Когда лайнер приземлился, запах мимоз и тепла едва не сбил с ног. Уже успев привыкнуть к казарменной эстетике, я был потрясен цветением весны и другой жизни. Я попал в другое измерение, и в этом другом измерении меня встречала — не побоюсь этого слова — красивая женщина.
Длинноногая и беловолосая, она возвышалась над толпой, как королева. И то, что королева встречала меня, забацанного рядового в/ч 21038, — казалось чудом.
«Чумаков бы увидел, каков бабец — застрелился бы!» — с гордостью подумал я.
— Я заказала тебе номер в гостинице, — сказала Надя. — Рядом с морем. Ничего?
— Конечно, ничего, — ответил я, уже позабыв, что существуют, оказывается, такие замечательные слова, как «гостиница», «номер», «море».
Мы вошли в вестибюль.
— Паспорт! — каркнула администраторша из гостиничного окошка.
— У меня нет паспорта. Я военнослужащий, — произнес я. — Есть военный билет.
— По военному билету только с разрешения военного коменданта. Идите к нему, — снова прокаркала администраторша.
Фейерверк медленно тускнел. Встреча с комендантом никак не входила в мои планы. Так как отпускные документы были оформлены в Кишинев, то всякое уклонение от маршрута считалось дезертирством, о чем я и сказал Наде.
— Ничего страшного, — отреагировала она, — я знаю этого коменданта.
И попросила разрешения позвонить. Администраторша милостиво позволила. Конечно, комендант, как настоящий джентльмен, не мог отказать Надежде. Минут через двадцать мы уже сидели в его кабинете.
— Давайте ваш билет! — сказал он, съедая мою женщину глазами.
Я дал.
— Так! — сказал он, взяв билет и продолжая доедать Надю.
— Билет у вас в руках, — вежливо напомнил я.
— Ага-ага! — спохватился тот, открыв наконец мои документ. Глаза его полезли на лоб.
— Так вы рядовой? — изумленно спросил он.
— А кто же я, генерал, по-вашему? — не понял я.
— А Надежда Петровна сказала, что вы лейтенант.
— Да какой я лейтенант? Обычный рядовой, — ответил я, недоуменно глядя на Надю.
Та в свою очередь тоже ничего не понимала.
— Извини, — пожала плечами она, — я была уверена, что ты лейтенант. Как минимум.
Мне, конечно, польстила Надина уверенность в моем стремительном продвижении по служебной воинской лестнице, но на ход событий это не влияло.
— По идее, — продолжил комендант, — я должен посадить тебя в поезд и этапом отправить в Москву, где на тебя будет заведено уголовное дело.
Поняв, что перед ним не офицер, а всего лишь несчастный солдатишко, комендант потерял ко мне всякое почтение и с уважительного «вы» перешел на презрительное «ты».
— Но вы же не сделаете этого. Вы не посмеете этого сделать! — драматически воскликнула Надя.
Комендант посмотрел на нее с сожалением, не в силах понять, как такая роскошная фемина могла опуститься до уровня общения с таким чмом, каковым я ему казался. «Дура ты безмозглая! — читалось в его взгляде. — Дура ты, дура!»
— Так не сделаете? — снова патетически воскликнула Надя.
— Да чеши ты с ним, куда хочешь, — презрительно сказал он. — Но учти, еще раз попадешься — сдам, не задумываясь.
— Ну-с, что будем делать, Надин? — спросил я, когда мы вышли из комендатуры.
— У моей подружки есть маленький домик на берегу моря.
Я на всякий случай взяла ключик. Видишь, пригодился.
Меня всегда поражала женская предусмотрительность. Мы двинулись в сторону домика. Сказать, что подружкин домик был маленьким, значит ничего не сказать. И вообще меньше всего он напоминал домик. Когда мы подошли к месту, Надя горделиво показала рукой на старый, много повидавший в своей обкаканной жизни сортирчик и сказала:
— Вот он.
— Кто? — не понял я.
— Домик.
— Вот это место общественного пользования ты называешь домиком? — спросил я с некоторой долей брезгливости.
— Но другого все равно нет. Чего ты капризничаешь? — резонно заметила она.
В сортирном домике невозможно было потеряться. Войдя в него, мы сначала уперлись лбом в противоположную стенку, а потом свалились на пол, оказавшийся постелью.
Это было хитроумное устройство. Человек, не знакомый с географией сортирного домика, открыв дверь, автоматически обрушивался на постель, не предполагая, что таковая валяется прямо под ногами. С другой стороны, это было очень удобно: попадая в такую постельную мышеловку, женщина — независимо от того, хотела она этого или нет, — стремительно приходила в горизонтальное положение. Так что главным для пылких местных кавказцев было довести курортницу до домика, а все остальное ничего не подозревающая будущая партнерша быстро доделывала сама. Кавалеру оставалось только вовремя открыть дверь и галантно пропустить дам у вперед.
В этом подозрительном будуаре мы провели три сопливо-чувствительных дня, после чего мне надо было собираться в дорогу. Прощание было грустным.
— Я знаю, что мы больше никогда не увидимся, — говорила Надя.
— Да брось ты, — хорохорился я, — увидимся, чего там.
Однако интуиция не подвела Надю. Это была наша последняя встреча.
Когда я прибыл в родную часть, казенные стены не вызвали в моей неблагодарной душе сентиментального отклика.
Скорее, наоборот. А тут еще начался сезон штабной охоты на музыкантов. Начштаба подполковник Акулов считал оркестр гнездом диссидентства в нашем показательном полку.
— Я раздавлю эту джазовую гидру капитализма своими мозолистыми ногами и руками, — гремел он на летучке.
И делал соответствующее движение сапогом, как бы втирая в землю это вонючее животное.
Примерно раз в месяц он вероломно врывался на территорию оркестра и с криком «Всем стоять!» устраивал грандиозный шмон в поисках компромата. Но неожиданные облавы не давали положительных результатов. Оркестр был отвратительно чист, если не сказать — стерилен. В социальном смысле, конечно.
«В чем причина?» — спросите вы.
А в том, что ровно за час до шмона начальника штаба бдительный майор Чумаков устраивал свой.
Откуда такая интуиция? — снова спросите вы и будете правы. Между тем секрет прост: Чумаков на одну восьмую был цыганом. Его прабабушка, будучи девицей, согрешила не то с конокрадом, не то с коноводом, не то просто с конюхом, впоследствии оказавшимся цыганом. В минуту опасности колдовская цыганская восьмушка как бы сигнализировала Чумакову: «Осторожно, звездец не за горами!»