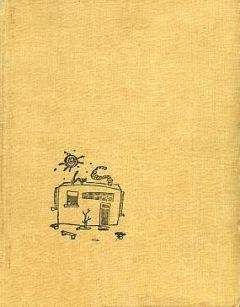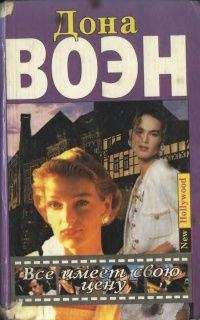В конце концов Матрена Ивановна вынуждена была, чтобы защитить свои права, обратиться к помощи закона. Народный суд решил удерживать с Павла Ивановича определенную сумму его заработка на содержание матери. Это взбесило сына окончательно.
Я получил от Павла Ивановича письмо с приложением различных документов на тридцати семи листах. Это копии его обращений и заявлений в судебные органы. И каждое заявление дышит испепеляющим гневом. Против кого же обращен этот гнев?
Прежде всего против суда. Павел Иванович с пеной у рта оспаривает законность принятого судом решения. Он утверждает, что «для судьи гражданское право не закон», что судья «попирает личные права граждан». Сын Матрены Ивановны негодует по поводу того, что народный судья в письме к нему «пытается читать нравоучения», не «подумав о том, — высокомерно добавляет Павел Иванович, — что я, возможно, а это точно, морально выше его».
Но Павел Иванович усматривает серьезные изъяны не только в моральных качествах судьи. Он бросает тень и на моральный облик родной матери. Он бранит ее за то, что она обратилась в суд, проявив этим «старческое непонимание» и «аполитичность». Он вообще считает, что покинутая родным сыном мать должна чувствовать себя превосходно. «Наша мать Матрена Ивановна, — прямо заявляет Павел Иванович, — не является такой несчастной, как это представилось суду». Забыв обо всем, что сделала для него мать, каких забот и трудов стоило ей вырастить сына, Павел Иванович кощунственно заявляет, будто его мать вообще «не уважает трудиться».
Однако здравый смысл все же подсказывает Павлу Ивановичу, что правда на стороне советского суда и на стороне матери, что ему не отвертеться от выплаты ей пособия. И тогда он пускается в сутяжничество. Бескорыстная и самоотверженная любовь вскормившей и вспоившей его матери забыта. Павел Иванович всячески изворачивается, чтобы урвать копейку из полагающегося матери пособия, чтобы не переплатить ей лишнего. Он грозно вопрошает: разве не видит суд, что мать «хочет есть пять кусков, а нам с нашими детьми оставляет по одному»?
Письма и заявления Павла Ивановича полны различного рода цифровых выкладок. Чтобы убедить судей в том, что мать буквально раздела его догола, Павел Иванович приводит следующий расчет:
«Моя зарплата — 187 рублей.
Оплата квартиры, коммунальных услуг — 20 рублей.
Прочие расходы — 3 рубля.
Расходы на одежду, обувь — 55 рублей.
Матери — 25 рублей».
Остается на питание каждого из членов моей семьи 84: 4 = 21 рубль.
Составив этот расчет, сын пришел к тому непреложному выводу, что мать будет получать с него на 4 рубля больше той суммы, которая расходуется ежемесячно на питание каждого члена его, Павла Ивановича, семьи. «Как же суд может допустить это? — гневно вопрошает он. — Где же логика правосудия?»
Такова вкратце история отношений Павла Ивановича и Матрены Ивановны, испорченных обстоятельствами материального, денежного характера. Читатель видит, почему эти обстоятельства не нарушали семейного мира и согласия в столь неотдаленные времена и почему их антагонистические свойства проявились с такой силой теперь.
Столкнулись два диаметрально противоположных явления: любовь матери и холодный расчет сына-эгоиста. Свои сыновние чувства Павел Иванович хочет измерить количеством рублей, которые получит с него мать.
И если уж, дескать, судить по справедливости, то это количество должно постепенно уменьшаться. Ведь, по разумению Павла Ивановича, неумолимое время амортизирует все на свете, в том числе и чувство привязанности сына к своим родителям.
Но если Павел Иванович рассуждает так, то он рискует оказаться полным банкротом. Ведь и в его семье тоже растут дети…
Да, пришло наконец время сознаваться: это кошмарное преступление совершил я. Теперь, когда минуло столько мучительных дней, недель и месяцев, мне стало особенно ясно, что в происшедшей печальной истории повинен только я и никто другой. И чтобы вы поверили в искренность моего раскаяния, расскажу по порядку, как постепенно слабела моя воля к запирательству и зрела решимость встать на честный путь правды.
Итак, в один ясный осенний день наша соседка привела во двор моих хозяев козу. Она привязала ее к столбу и сказала:
— Теперь эта животина ваша. Я не дожила еще до такого позора, чтобы держать у себя покусанную козу и тем более предлагать ее отравленное молоко нашему замечательному советскому покупателю.
И ушла, сердито хлопнув калиткой.
В этот момент в моей закоренелой от многих проступков душе еще не дрогнула ни одна честная струна. Не долго думая, я быстро шмыгнул в свою конуру, трусливо, по-воровски поджав хвост. Я мужественно употреблю это излюбленное романистами выражение, так как сознаю, что иной оценки своего отвратительного поведения в то время не заслуживал.
Сознаюсь, я даже втайне возликовал, когда на другой день моей хозяйке удалось добиться у ветеринара справки о том, что коза, мол, жива и невредима, а ее молоко смело может быть отнесено к разряду диетических продуктов питания. Я даже взвизгнул от радости: мне казалось, что упомянутая справка полностью обелит меня.
Чувство раскаяния не пробудилось во мне и после того, как я увидел знакомого почтальона, вручавшего моему хозяину судебную повестку. Мне еще казалось, все обойдется благополучно. На что я рассчитывал? На упомянутую злополучную справку, милосердие судьи или справедливость народных заседателей? Ответить на эти вопросы мне сейчас трудно.
Во всяком случае, поджидая возвращения хозяина, я разлегся в траве напротив здания суда с самым беспечным и рассеянным видом. Из открытых окон доносился его голос:
— Что же касается Полкана, граждане судьи, то, поверьте, он не только козы, а и мухи не обидит!
Честно признаюсь, в эту минуту по моим устам пробежала невольная саркастическая улыбка. День выдался теплый, безветренный, и мухи буквально облепили меня. И к тому времени, когда предоставили слово моему хозяину, немало этих вредных тварей уже валялось в траве, раздавленных моими лапами… Но, повторяю, я был настроен вполне благодушно.
И тем сильнее поразил меня удрученный вид возвращающегося с судебного заседания хозяина: суд решил взыскать с него сто рублей в пользу соседки за ее, как она выразилась, изгрызанную и чуть ли не обглоданную до костей козу.
Но наутро от этого чувства не осталось и следа: хозяин пошел жаловаться районному прокурору. Полный надежд, я весело проводил его до самой двери прокурорского кабинета. И слышал, как прокурор вразумлял моего хозяина:
— Вы бы, гражданин, научились мужественно признавать свои ошибки, а потом уже обзаводились собаками!
Это был камень прямо в мою сторону.
С тех пор начались для меня кошмарные дни. Хозяин ходил мрачный, как туча, и не обращал на меня никакого внимания. Хозяйка бегала за мной по двору с палкой, как за последним ворюгой. Все знакомые собаки перестали со мной здороваться, а иные даже насмехались:
— Ну, Полкан, заварил ты кашу, теперь расхлебывай…
По вечерам хозяин писал жалобы в областной суд, в областную прокуратуру. А по утрам я должен был бежать рядом с ним на почту, отправлять заказные письма. Или встречать знакомого почтальона, который носил теперь в наш дом только казенные бумаги.
С хозяина каждый месяц удерживали деньги, хозяйка перестала варить жирные, наваристые борщи, и моя когда-то блестящая шерсть побурела и свалялась в комки. Вот уж собачья жизнь!
Я стал серьезно раскаиваться в своем проступке… И вдруг хозяину сообщили, что его дело со всеми письмами, жалобами, апелляциями затребовала Москва. Хозяин воспрянул духом, повеселел, подобрела хозяйка… И я снова укрепился в своем решении утаить от людей правду.
О, с каким нетерпением я ждал того дня, когда мой хозяин получит ответ из далекой столицы! Если бы можно было, я сбегал бы за ним сам. Но от знакомых собак с побережья я знал, что остров Сахалин, где расположен наш город Томари, отделен от материка таким широким проливом, что его ни за что не переплыть. А десять с лишним тысяч километров по суше! Разве хватит сил пробежать их?
Одним словом, оставалось только ждать. Пользуясь досугом, я еще и еще раз обдумывал печальное происшествие во всех деталях. На мой взгляд, оно породило сразу несколько юридических вопросов:
1. Была ли коза нашей соседки действительно покусана собакой моего хозяина, то есть лично мною?
2. Действительно ли характер нанесенных указанной козе повреждений таков, что упомянутая коза полностью была лишена функций производителя молока и оказалась не в состоянии выполнять свои практически полезные обязанности домашнего животного?
3. Соответствует ли размер наложенных на моего хозяина финансовых санкций той ценности, которой фактически обладает коза нашей соседки?