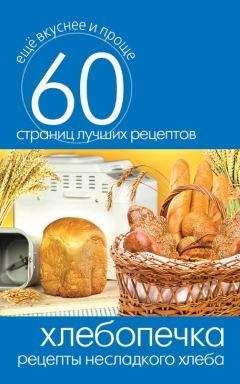– Понимаете...– начала бабушка.
– Значит, он не прописан пять лет и два месяца?
– Так получилось... Отец в экспедициях, мать вечно занята, мы больные, старые...
Строгая тетя посмотрела на красивые, открытые до локтя руки бабушки.
– Больные, старые... Не оправдывайтесь. Нарушение паспортного режима.
– Мы заплатим штраф, если нужно, – робко сказала бабушка Таня.
– Штраф тут ни при чем! – срезала ее тетя-милиционер. – Почему он не был прописан у отца с матерью пять лет и два месяца, а сейчас... Жилищные комбинации?!
– Я не позволю, вы не смеете! – закричала бабушка.
– Факт налицо. Мы не можем прописать его.
– Мы будем жаловаться! Имейте в виду, другой дед у него – адмирал, – пригрозила бабушка.
– Не запугивайте меня, – сказала строгая тетя.
– Я не запугиваю, но это бюрократизм!
Это слово было незнакомо Глебу, но, должно быть, это было очень нехорошее, обидное слово, потому что теперь побледнела тетя-милиционер. Она поднялась из-за стола и оказалась очень длинной, на целую голову длиннее бабушки.
– Немедленно покиньте помещение! – приказала бабушке строгая тетя.
– Не покину! – вцепилась в стул бабушка.
– Вас выведут!
– Не выведут!
Тут бабушка и тетя-милиционер принялись молотить друг друга разными словами, как колотят кулаками друг друга мальчишки. Глеб очень испугался, что они раздерутся по-настоящему, а бабушка и тетя не переставали, пока не охрипли. Наступила страшная тишина. В этой тишине Глеб встал со стула, подошел к столу и сказал тете-милиционеру:
– Тетя Саша, пожалуйста, пропишите меня поскорее. Мне нужно в Комарово к Петьке Троице, у него сегодня день рождения, он очень ждет меня.
Тетя-милиционер посмотрела на Глеба, улыбнулась и сказала просто, как все обыкновенные тети:
– Ты торопишься к Петьке на день рождения, Глеб?
– Да, я опаздываю. Наверное, там уже едят мороженое. Пропишите меня поскорее!
Тетя-милиционер снова улыбнулась Глебу, строго посмотрела на голые, с ямочками, бабушкины локти и сказала ледяным голосом:
– Пишите заявление!
В одно прекрасное утро, как писали когда-то старинные романисты, я сбрил усы.
Зачем я это сделал, не знаю. Наверное, из присущей каждому человеку жажды разнообразия, а может быть, я хотел обрадовать жену, сделав ей оригинальный подарок ко дню двадцатилетия нашей свадьбы.
Я поступил отчаянно смело, воспользовавшись тем, что Катя была в командировке. Операция заняла не больше минуты. Два-три прикосновения бритвой – и целая эпоха моей жизни закончилась.
«Так-то, брат, есть у тебя воля, другие и курить бросить не могут», – подмигнул я себе в зеркало и отправился на работу.
Вахтер Еремеич обычно приветствует меня словами: «Здрав-желам!» На этот раз его солдатское лицо ожесточилось, продольные морщины вытянулись по команде «смирно».
– Удостоверение пожалуйте, – произнес он ржавым голосом.
– Что ты, Еремеич, откуда у тебя такой приступ бдительности? – спросил я, протягивая ему служебный пропуск.
Вахтер долго рассматривал его, кидал на меня пронзительные взгляды, потом сказал:
– Вы самый, а фото смените, нужно, чтобы личность соответствовала документу.
Когда я вошел в отдел, Ниночка Вермишева вытаращила на меня голубые бусинки глаз и жутким шепотом выдохнула:
– Ой, что это у вас губа белая?
– Как так белая? – не понял я, забыв, что было лето, мои щеки, лоб, нос покрылись загаром, а верхняя губа осталась белой, как дорожка из гальки в темную ночь.
Все остальные сотрудники дружно уставились на меня.
– Толковенько, – сказал Леня Медницких, обладатель самых драных джинсов и «кубинской» бороды. – Наконец-то вы расстались с пережитком прошлого.
– Можно и так, – многозначительно вымолвил Николай Осипович Мельников, старший конструктор и судья по хоккею с мячом, – можно, если у вас какая-нибудь экзема или другие кожные неприятности.
Кожными болезнями я никогда не страдал, но вдруг почувствовал нестерпимый зуд на верхней губе. К счастью, как следует подумать о возможной болезни я не успел, так как наши сотрудницы затеяли оживленную дискуссию.
Длинная Зоя сказала, что я и раньше был симпатичный, а теперь похож на Жана Габена, только мне надо постареть, что при нашем сумасшедшем плане нетрудно. Танечка-импорт (она могла раздобыть из-под земли любую заграничную штукенцию) хмыкнула, что Габен настоящий мужчина, а у меня, пусть я не сержусь, мужского были только усы. Зина-путешественница (так ее прозвали за любовь к городским командировкам) заявила, что усы – это старомодно, а если я отпущу бакенбарды, то буду похож на человека. Кто-то сказал, что бакенбарды не для утконосых, кто-то намекнул, что мне давно пора перестать стричься, как милиционер.
После обеда меня вызвали к начальнику отдела. Я пришел, вооруженный документацией по одному из объектов. Не удостоив вниманием чертежи и схемы, он воткнулся в мое лицо непроницаемым административным взглядом, пожевал губами и желчно изрек:
– Омолаживаемся? Теперь все на это бьют.
Я понял намек. Начальник ждал, что скоро его пошлют на заслуженный отдых, и к каждому из нас, кто был моложе его, относился недоверчиво. Раньше, с усами, я не вызывал у него подозрений, но сейчас...
– Что вы? – пробормотал я. – Это просто так... Для разнообразия.
– Для разнообразия нужно работать лучше, – сострил он и забраковал мои документы.
Возвращаясь на рабочее место, я думал, как поступить: подать заявление по собственному желанию или спешно отращивать усы.
Дома меня встретил Витька, наш гривастый, бакенбардистый отпрыск. Одет он был подчеркнуто небрежно – должно быть, собирался на молодежный бал.
Витька не заметил перемены в моей внешности. Сначала это показалось мне странным, затем я вспомнил одну из статей под рубрикой «Педагогические раздумья», где писалось, что детей больше всего интересует внутренний мир родителей.
Я снял туфли, надел тапочки и уселся напротив Витьки. Помолчав немного, я спросил:
– Витька, ты не замечаешь во мне ничего особенного?
– Абсольман ничего.
– Смотри лучше!
– Веревочку пора сменить, – ткнул он в мой галстук, – таких и чабаны не носят.
– Верно, а еще что?
– Абсольман, – повторил он и погрузился в раздумья, недоступные старшему поколению.
– Ну, а усы, как считаешь? – не выдержал я. Мгновенная, как у боксера, реакция мелькнула в Витькиных зрачках.
– Порядок, – присвистнул он, – лет на пятнадцать меньше тянешь. – И сразу же нокаутировал меня: – Кинь десятку, отдам со стипендии.
В состоянии глубокого шока я дал ему пятнадцать рублей.
Вечером из командировки вернулась Катя.
– Толик, что с тобой? – тревожно и ласково спросила она.
– Ничего, – ответил я, помог ей снять пальто и проводил в столовую.
– Ты здоров? – спросила любящая жена, вглядываясь в меня.
– Абсольман.
– Зачем же ты это? ..
– Видишь ли, еще Гераклит сказал: «Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку».
Когда-то Катя сдала истмат на пятерку, но в семейной жизни философия ей не пригодилась.
– При чем здесь Гераклит? – удивилась она.
– Диалектика. Все меняется.
Катя побледнела. В глазах мелькнули росинки слез, но она держалась с достоинством, свойственным нашим женщинам.
– Ты влюбился, – сказала она дрожащим голосом. – Конечно, я уже стара, а она прекрасна, молода... Я не держу тебя. Я уйду сама...
– Катя! – закричал я, схватив ее за руку. – Какая любовь?! Ты же знаешь, сейчас конец квартала.
– Ах так, значит, в начале года ты бы мог...
Мы поссорились и в первый раз за девятнадцать лет семейной жизни спали отдельно. Я устроился на Витькином диване. Мне повезло: Витька вернулся только утром. Спал я плохо. Мучили кошмары. Бывший кайзер Вильгельм II грозно таранил меня пиками усов, Ги де Мопассан поглаживал свои шелковые усы, напевая по-французски: «Но изменяю им первый я», Чарли Чаплин смотрел на меня печальными глазами.
Утром, идя на работу, я надеялся, что меня оставят в покое, но споры продолжались.
Обсуждали, предлагали, советовали, а я ходил и думал: «Что же случилось? Ведь было и раньше во мне нечто индивидуальное, отличавшее меня от других, ну хотя бы мое увлечение музыкой и поэзией. И неужели усы, бакенбарды, прическа и какая-нибудь кожаная шляпа с дырочками важнее человеческой сущности?»
Однажды к нам в гости пришла подруга Кати с семилетней дочкой Машенькой. Женщины беседовали в столовой, закрыв двери. Время от времени до меня доносились их голоса, произносившие мое имя.
Я увел Машеньку на кухню и стал задавать ей скучные вопросы, которыми обычно взрослые терзают детей: «Сколько тебе лет? Какие у тебя отметки? Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?»
Машенька отвечала неохотно. И вдруг, неожиданно для самого себя, я спросил:
– Ты помнишь, Машенька, когда я носил усы?
– Конечно, помню.