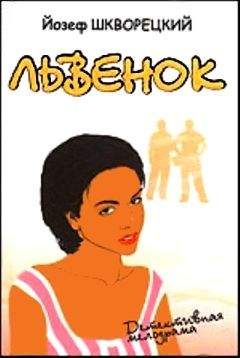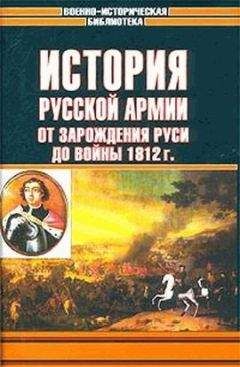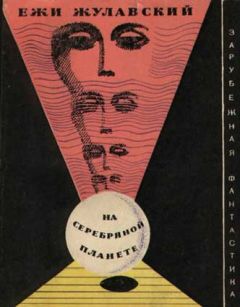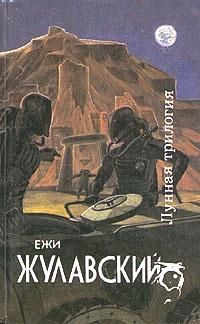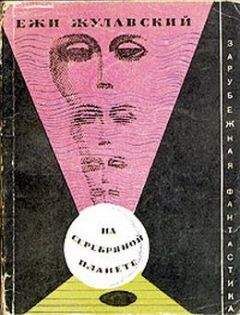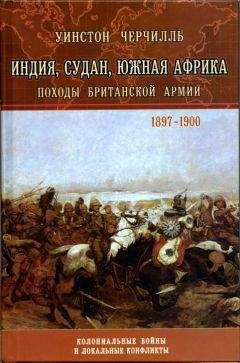Дополнял собравшуюся компанию Альфред Чепелка, психиатр и саксофонист-сопрано подозрительного диксиленда, члены которого приветствовали друг дружку словами «Виват, Чикаго!»; некоторым из них так и не удалось убедить соответствующие органы, что о симпатии к капиталистическому строю речь тут вовсе не идет. Кроме того, Чепелка уже много лет возглавлял подпольную сюрреалистическую группу, нерегулярно проводящую полутайные вечера в маленькой аудитории психиатрической клиники, вечера, которые посещали среди прочих и два работника организации хотя и не менее тайной, но уж никак не нелегальной. Один грузчик с пивоварни (бывший доктор истории искусств) проводил на этих встречах последовательную переоценку всей мировой культуры с точки зрения наидогматичнейшего авангарда, так что милости у него удостоился только Андре Бретон. Ежегодно эта группа выпускала увесистый альманах, причем всенепременно в единственном экземпляре (один из членов группы, прежний доктор прав, объяснил, что в этом случае нельзя будет применить статью о распространении антигосударственной литературы), и таким вот порядком «Ужас» 1950, 1951, 1952, 1953 и т. д. появлялся регулярно каждый год с безмолвного ведома соответствующих служб, которые, по всей видимости, ждали, что будет.
Многие сейчас ждут, подумал я, но кто может знать, что будет? Даже шеф не может. А эти вот ничего не ждут. Они делают свое дело. Чаще всего у них выходят глупости. Но делают они их яростно, бескорыстно, во вред себе, точно обуянные каким-то бесом, как вот, например, Блюменфельдова. И похоже, все они стремительно движутся к гибели.
Мною овладели невеселые мысли, собравшиеся угнетали меня своей агрессивной незапятнанностью. И лишь барышня Серебряная была в силах помочь мне, отведя в единственный безопасный мир, мир, принадлежавший только ей. Я смотрел, как горделиво высится она над своим платьем для коктейлей, подобная кофейной розе, и капельку дуется на меня, потому что, узнав, что здесь нет моего шефа и что к нему мы отправимся позже, она заявила, что я обманщик, завлекший ее сюда под фальшивым предлогом. Однако вскоре началась коронная часть таких вечеринок — рассказывание историй, и барышня Серебряная заслушалась. Она сидела, точно прекрасный лебедь, на краешке Дашиного нелепого стульчика и внимала композитору Ребусу, который под светом антрацитовых глаз просто лез вон из кожи. Ее красивые груди, сильно оголенные глубоким декольте, приобрели в сигаретном дыму приятный оттенок кофе с молоком, и я задумался о том, а какие же у барышни Серебряной соски? Наверное, розовые. Розовые на светло-коричневой бархатистой коже этих прекрасных округлых желез.
Девичьи соски в прошлом часто вдохновляли меня на любовные метафоры из области декоративных растений, и эти метафоры даже суровые товарищи, охранявшие общественную нравственность, при всем желании не могли характеризовать как натуралистичные. Но сейчас ничего садоводческого мне в голову не приходило. Мне было плохо, я чувствовал слабость в присутствии этой девушки, хотя я и притулился к ней именно затем, чтобы почерпнуть уверенности, чтобы укрыться под панцирем ее красоты от меланхолии моих истинных миров. Вместо же этого я очутился едва ли не в объятиях железной девы[23].
А Ян Ребус рассказывал невеселый анекдот из собственной жизни: анекдот о сложностях, с которыми он столкнулся, когда работал над своей «Историей джаза вкратце», первой ласточкой, которая должна была возвестить о наступлении весны космополитической музыки. Это была искусная компиляция из американских источников, предназначенная для начального образования оголодавших afficionados.[24] Однако редактор Гимлер из музыкальной редакции нашего издательства, которому поручили уничтожить «Историю» или по крайней мере как можно сильнее адаптировать ее для товарища Крала, написал на нее длинную и отрицательную рецензию, которую кто-то из редакторов скопировал и тайком передал Ребусу. И Ребус зачитал нам ее заключительный пассаж: «В целом можно оценить произведение Яна Ребуса как некритически распространяющее культ джазовых звезд, что отвлекает нашу молодежь от выполнения важных задач и от подготовки к новым свершениям. Кроме того, характерным для буржуазно безыдейной и мировоззренчески ущербной позиции Яна Ребуса является то, что, к примеру, во всей главе о возникновении джаза он последовательно употребляет выражение «креолы» вместо «негры» и ни разу не подчеркивает, что эти креолы были бедняками, а, наоборот, указывает, что они были богачами, причем пишет об этом с излишними подробностями. Еще он объясняет, будто бы джаз возник благодаря взаимопроникновению различных музыкальных культур, что выражает некритическое отношение автора к буржуазной теории «взаимовлияний», вместо того, чтобы написать, что негры мучились в рабстве и от этого появился джаз. Вдобавок книга перегружена большим количеством несущественных имен и фамилий (например, «Банк» Джонсон, Трикси Смит, Пи Ви Рассел, Джелли Ролл Мортон, Бикс Байдербек, «Трики Сэм» Нэнтон и т. д.), которые совершенно незнакомы нашему читателю и излишне перегружают его, так что я рекомендую их вычеркнуть. Серьезным недостатком также является то, что нигде не упомянут тов. Поль Робсон, хотя как негр он тесно связан с джазом и надо его вставить.»
— И ты его вставил? А тех вычеркнул? — прервал тут Ребуса Коцоур.
— Нет, — ответил Ребус. — Гимлера уже уволили из издательства.
Это был пас мне: я ощутил прилив благодарности к нему, потому что он давал мне возможность выказать себя одним из них, да к тому же в присутствии барышни Серебряной.
— Точно, уволили, — сказал я. — Он сексуально растлил одну девицу из секретариата, у которой брат сидит в тюрьме. Гимлер угрожал через своих знакомых в органах сделать так, чтобы брат остался без зубов. Если только девица с ним не переспит. — Я краешком глаза глянул на кофейную розу, и мне показалось, что она недовольна моим циничным тоном; я его тотчас сбавил: — Потом она ему надоела, и он попробовал точно так же подъехать к другой. Из секретариата директора. У той за решеткой был муж. Да только она оказалась крепким орешком — стукнула на него партсекретарю, и его погнали.
— В смысле подбросили вверх, — вмешался Ребус. — В Союз композиторов. В издательстве мне вчера сказали, что и оттуда он интересуется моей книжкой. Вроде бы у него есть к ней претензии.
— Это тот крикливый парень, который всегда ходит на пляж с двумя фотоаппаратами на животе? — поинтересовался Чепелка.
— В последнее время с кинокамерой, — ответил я. — За ним там закреплена кабинка, и через дырочки от выпавших сучков он снимает переодевающихся дам.
Эстафету подхватила Кармелитка, поведав историю о директоре Театра балета и о лифте. Из вечера в вечер за пять минут до конца спектакля этот самый директор брал у вахтера ключ от лифта и уезжал куда-то вверх. Минут через двадцать он возвращался, отдавал ключ и уходил домой. Естественно, вахтер никак не мог взять в толк, что означают эти вертикальные путешествия, и однажды, когда начальство заболело гриппом, сам отправился на экскурсию. Лифт в театре управлялся рычагом, а не кнопками, так что его можно было остановить между этажами, и по мере того как вахтер возносился вверх, его глазам постепенно открывался такой вид, что в какой-то момент пришлось затормозить и даже спуститься метром ниже. Это была прекрасная панорама женских душевых кабинок, где балерины как раз смывали с себя пот и пыль сцены.
На следующий день, когда выздоровевший шеф по обыкновению ровно за пять минут до финальных поклонов подошел за ключом к будочке вахтера, будочка оказалась пустой, а сам вахтер куда-то запропастился, хотя его и разыскивали по всем театральным телефонам. Вернулся он примерно через четверть часа и сослался на внезапную дурноту. То же повторилось назавтра, и только на третий день шеф догадался подождать возле лифта. Через пятнадцать минут вышедшего из кабины раскрасневшегося вахтера обвинили в грубейшем нарушении трудовой дисциплины и пригрозили ему увольнением. Но поскольку этот представитель народных масс отлично знал, что именно так разозлило директора, то и засмеялся прямо ему в лицо; дело решилось к обоюдному согласию. С того дня задыхающийся лифт поднимал двоих задыхающихся мужчин и четверть часа висел на приколе между вторым и третьим этажами. Это продолжалось бы в течение многих лет, если бы директор не воспылал страстью к одной юной воспитаннице балетной школы, которая всегда принимала душ в ближайшей к лифтовой шахте кабинке. Он позвал ее к себе в квартиру под классическим предлогом: хочу, мол, предложить вам главную роль. К несчастью, у воспитанницы оказался влиятельный и энергичный отец. Директора пинками прогнали в Институт театрального искусства, где он стал референтом всех балерин страны. Вахтер превратился в шахтера, а пользование лифтом с 22 до 23 часов было запрещено. За тем, насколько строго соблюдается данный запрет, следит теперь новый директор — самолично, ежедневно и непосредственно на месте; он из-за растраты был переведен в Театр балета из Центрального управления пекарен.