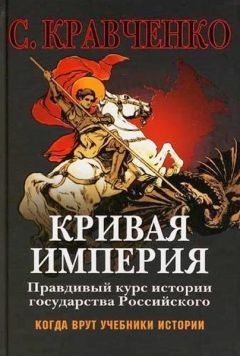Да и народу было кисло. Ведь это с него драли подать на выкуп дорогого князя, не пожелавшего бесплатно помереть за народ.
Расклад стал меняться. Как-то незаметно все крупные карты оказались в колоде Шемяки. Даже московские шестерки тайно сговаривались против батюшки. А были среди этих шестерок и червовые бояре и трефовые чернецы, — смущенно вздыхал Писец.
12 февраля 1446 года москвичи предали своего князя, сообщили, кому следует, что он поехал к Троице помолиться. О чем молился князь, осталось его интимной тайной, но Бог его не защитил, и с последним всенощным ударом княжеского лба о церковный пол рухнули московские ворота. Ну, не рухнули, конечно. Открыли их спокойно расчетливые москвичи навстречу новой жизни.
Мать и жена Василия сразу попали под стражу. Казну пограбили — на то она и казна. Ощипали верных Василию бояр. Не забыли и простых, пассивных граждан. Успех был полный. И даже кровь не пролилась. Князь Можайский, козырный друг Шемяки, немедля кинулся в Троицу с войском.
В несчастный день 13 февраля (уж не пятница ли была?) Василий продолжал упражнять поясницу, когда ему сказали, что войска Шемяки окружили его всего, с ног до головы.
— Не может быть, чтобы брат пошел на брата, когда я с ним в крестном целовании! — запричитал Василий…
Тут мы с вами, дорогие читатели, имеем полное право заподозрить великого князя в блажной придури или душевном нездоровье. Ну, пусть он не читал книжек нашего Писца. Ну, пусть он в пол-уха слушал бабушкины сказки. Но сам-то он брата Косого лишил света божьего? Так что ж тут обижаться! Во власти братьев нет!
Писец присутствовал при этих событиях и мастерски описал все сцены. Посланец, принесший черную весть, был сам из предателей князя. Поэтому было велено поставить его в воротах в удобную позу и выбить со двора вон. Далее была снаряжена разведка. Разведчики поехали шумно. Шемякин дозор их заметил загодя. Поэтому многочисленные ратники были спрятаны в санях под хворостом. Нестроевые малые изображали возниц. Разведка подъехала к обозу с дурацкими расспросами: откуда дровишки, да, может быть, видали каких-нибудь военных?
— Отчего ж не видать? Видали! Вот они у нас под дровами лежат! Войско встало из саней. Бежать разведке было невозможно, снег вокруг лежал на девять пядей — кому по пояс, а кому и по грудь, — февраль, Россия!
Великий князь увидел свою разведку уже в окружении неприятельской армии. Кинулся к коням, ан нету коней! — все под разведкой. Кинулся к людям своим верным, хотел поднять их на смертный бой, но бубновые молодцы «оторопели от страха». Князь побежал по глубокому снегу в монастырь и заперся в Троицкой церкви.
Тут же в монастырь въехала конница московского боярина Никиты Константиновича. Командир хотел было на плечах неприятеля ворваться в церковь. Но конь страшно заржал, пытался пасть на колени, копытом совершал конвульсивные движения, похожие на крестное знамение. Досадливый Никита соскочил с набожного коня, но споткнулся о камень и расшибся. Поднят он был невменяемый и бледный, как мертвец. Откуда-то противно воняло серой. Подъехал Иван Можайский и стал кричать: «Где князь?». Князь из-за двери храма завел жалобную песнь…
Вот, черт, — не при храме будь помянут! — ну, как же жалко, что не было тогда звукозаписи! Пропало для потомков крупное вокально-инструментальное произведение. Но текст песни, к счастью, был спасен Писцом:
«Братья! Помилуйте меня! Позвольте мне остаться здесь, смотреть на образ божий, пречистой богородицы, всех святых; я не выйду из этого монастыря, постригуся здесь!» — фальцетом выводил Василий.
Хор мальчиков-головорезов из охраны Можайского отчеканил припев: «Пострижется, собака, как же!».
Василий взял икону с гроба святого Сергия Радонежского, сам открыл дверь в храм и встретил Ивана новым куплетом:
«Брат! Целовали мы животворящий крест и эту икону в этой самой церкви, у этого гроба чудотворцева, что не мыслить нам друг на друга никакого лиха, а теперь и не знаю, что надо мною де-е-елается?».
Архангелы басами отрезали контрапункт: «У-зна-ешь!».
Князь Можайский набрал в богатырскую грудь морозного загорского воздуха и повел свою арию коварным баритоном:
«Государь! Если мы захотим сделать тебе какое зло, то пусть это зло будет над нами; а что теперь делаем, так это мы делаем для христианства, для твоего окупа. Татары, которые с тобою пришли, когда увидят это, облегчат окуп».
На человеческом языке это означало, что ты, князь, родину проторговал, свою шкуру оценил дороже всего госбюджета, помогаешь татарам грабить всех бояр, крестьян и горожан, и нам так дальше терпеть невозможно. Так что, князь, не беспокойся, что надо будет, то мы с тобой и сделаем. Лишь бы поправить положение в экономике.
Опера продолжалась. Под красивый и грустный колокольный перезвон Василий положил икону на место и стал молиться с такими слезами, что из гроба святого Сергия явственно послышалось странное постукивание, а массовка вся прослезилась. Иван Можайский тоже не выдержал и, прикрывая глаза боевой рукавицей, вышел вон. «Возьмите его», — бросил охране.
Василий в полной прострации вышел на воздух и пытался продолжить фарс:
«А где же брат мой, Иван?», — фальшиво стенал он.
Оклемавшийся Никита Константинович рявкнул последнюю ноту: «Да будет воля божья!», и поспешил прекратить безобразие. Василия затолкали в обычные сани и повезли в Москву.
Здесь Шемяка три ночи, 14, 15 и 16 февраля, перечислял ему грехи перед народом и государством. Припомнил и ослепленного Косого. Тут пригодилась и «Русская Правда» с моисеевой заповедью «Око за око». Так что Василия тоже ослепили и сослали в монастырь. С тех пор за князем закрепилась кличка Темный — не по делам его, но по диагнозу окулиста.
Началась новая кадровая канитель. Одних рассаживали по городам, других пристраивали к военным и гражданским ведомствам, третьих ссылали в монастыри и деревни. Самые наглые сопротивлялись и бежали в Литву.
Как и водится, должностей и волостей оказалось меньше, чем людей. Опять возникла оппозиция из бывших своих. Они стали думать, как вернуть Темного и стать при нем в чести. Собралась немалая команда. Если опустить боярские титулы, а оставить только клички: Стрига, Драница, Ощера, Бобер, Русалка, Руно, — то получалась не политическая партия, а воровская малина. Ватага эта никакого дела сделать не успела, но напугала усталого Шемяку, и он засел с митрополитом совещаться, не выпустить ли Василия из плена. Решено было выпустить, но укрепить этот акт проверенным средством — крестным целованием.
Снова был сыгран неплохой акт. На фоне золотой московской осени 1446 года Шемяка с церковной бутафорией торжественно проехал в Углич, где сидел Василий, выпустил его с детьми и присными из заточения, сольно просил прощения и каялся. Слепые склонны к песнопениям, и Василий снова завел безудержное бельканто:
«И не так еще мне надо было пострадать за грехи мои и клятвопреступление перед вами, старшими братьями моими, и перед всем православным христианством, которое изгубил и еще изгубить хотел. Достоин я был и смертной казни, но ты, государь, показал ко мне милосердие, не погубил меня с моими беззакониями, дал мне время покаяться».
Слезы из слепых глаз текли ручьем, все присутствующие, хоть и знали княжьи повадки и ухватки, но умилялись и плакали. На радостях Шемяка закатил для бывших пленников буйный пир. Василий получил на прокорм Вологду, дал «проклятую грамоту», что никогда не полезет больше на великое княжение. В «проклятой грамоте» Василий божился, «что если я хоть подумаю о Москве, хоть вспомню Кремль и Красную площадь, так чтоб меня тут же черти утащили в самый страшный, татарский сектор преисподней!»
Это было очень серьезно. Поэтому, когда к освобожденному Василию набежали старые и новые дружки и стали подбивать его на царство и дележ портфелей, то Василий крепко призадумался. Бог с ним, с крестным целованием, его кроет простой плевок в пол. Бог с ними, покаянными слезами, — это у меня перерезаны слезные протоки. А вот «проклятая грамота» — это страшно.
— Ну, что ты, государь! Какие страхи? — успокоил Темного кирилло-белозерский игумен Трифон. — Проклятую грамоту я снимаю на себя!
— Как «снимаю»? Разве так можно? — засомневался князь.
— Отчего же нельзя? — резонно басил поп. — Теперь я не претендую на княжение, а ты — на мой скромный приход. Мах на мах, не глядя!
— А ведь и вправду, не глядя! — обрадовался слепой и поехал нашаривать и наощупь тасовать свою колоду.
По мере продвижения князя к Москве к нему присоединялись многочисленные сторонники. Подоспели и верные татары, очень им хотелось видеть Василия в Кремле и продолжить с ним финансовые расчеты. Шемяка и Можайский вышли навстречу проклятому клятвопреступнику. Но пока их войско было в походе, Москва снова предалась из рук в руки. Боярин Василия Михаил Плещеев с маленьким отрядом подъехал к Кремлю в самую ночь перед Рождеством. Ворота приоткрылись, московские сидельцы подумали, что это ряженые с колядками. Плещеев без шума захватил Кремль.