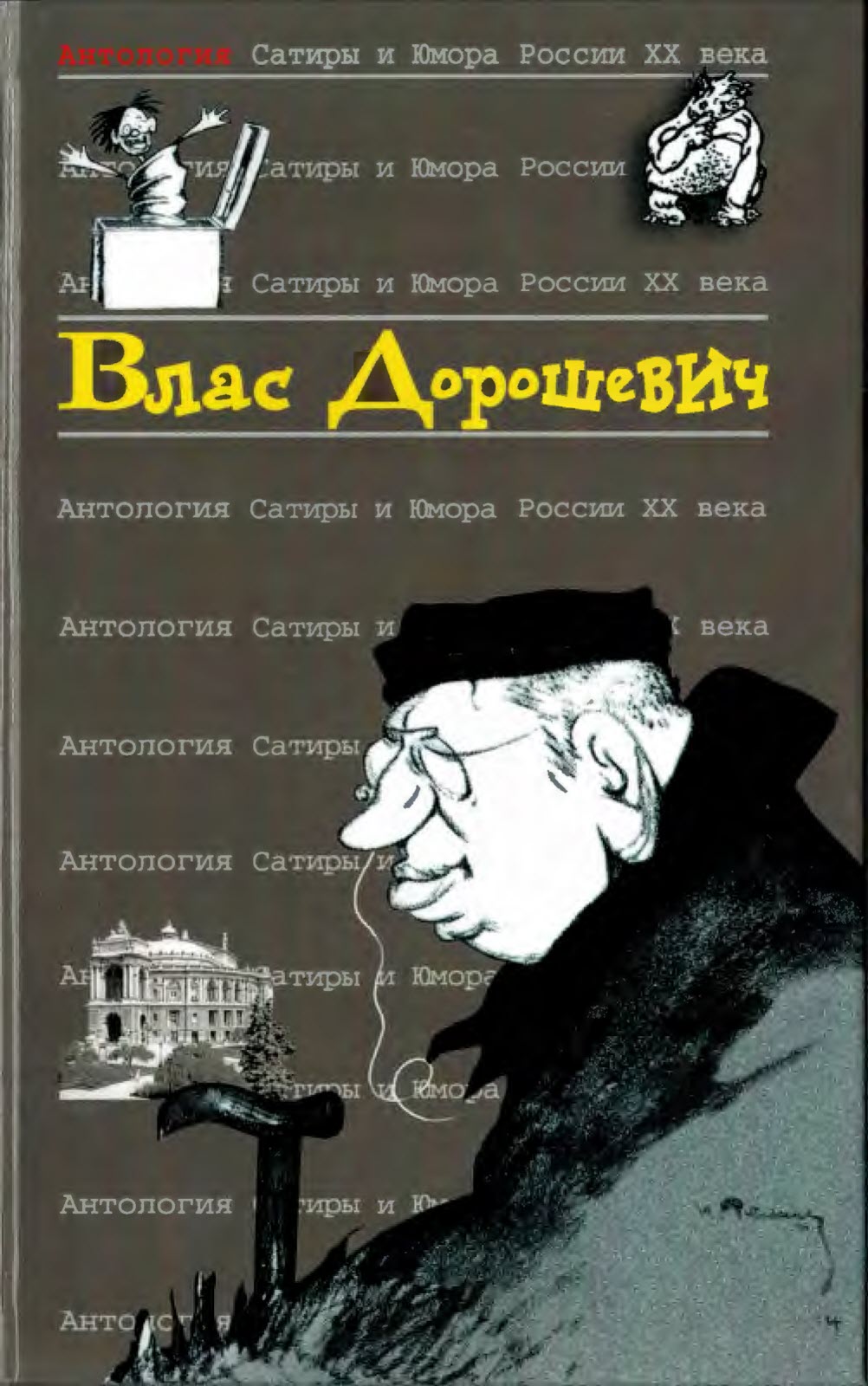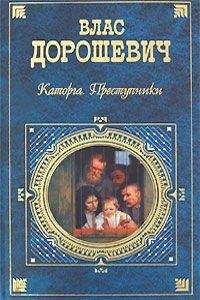6 января
Так и случилось.
Сегодня мещанин Березкин поставил мне на вид, что у меня полицеймейстер лютеранского вероисповедания.
Действительно, недоглядел.
— Ежели, — говорит, — об этом Дубровин узнает, он, брат, лютеранства не потерпит.
Предложил полицеймейстеру изменить веру. Послал даже за соборным протоиереем. Вообразите, в амбицию вломился:
— Всякий каждый фон-дер-Шнель-Клопс был, — говорит, — лютеран и умирал лютеран. Я, — говорит, — Лютер на всякий мещанин не меняй.
Скажите, как за Лютера держится! Приказал полицеймейстера отставить. Без прошения.
7 января
Торжества в честь мещанина Березкина продолжаются.
Сегодня вечером был в театре.
Давали «Марию Стюарт».
В последнем акте Емельян приказал:
— Не сметь казнить Марию Стюарт. Пущай живет.
Поднялся в ложе и кричал:
— Она королева! Я люблю королев!
Потом приказал, чтобы Мария Стюарт на радостях русскую плясала.
— Я, — говорит, — тебе жизнь пощадил. Веселись.
Мария Стюарт плясала вприсядку.
Дежурные полицейские кричали — ура! Хотел послать почему-то телеграмму королеве Вильгельмине. Но я кое-как отговорил.
8 января
Емельян — трудный человек. Во-первых, говорит мне «ты».
— «Вы», — говорит, — слово немецкое. А тебе, — говорит, — по-русскому буду! Ты.
Оно действительно больше по-русски. Но все-таки губернатор. И губернатор — слово нерусское. Просил его, чтобы хоть звал меня:
— Ты, воевода.
Слава богу, согласился. Сам обращаюсь к нему:
— Уж ты гой еси!
Все-таки не так фамильярно.
Сегодня у меня был в честь Емельяна большой обед, а вечером бал. Были тосты. Емельян, как он говорит:
— Себя не выдал!
Особенно когда какой-то оратор в пылу красноречия упомянул:
— Заложим жен и детей…
— Верно! Сию минуту! Воевода! Бери жену в охапку, понесем ее к жиду! Заложим, а деньги пропьем!
Жена была в обмороке. Но Емельян кричал:
— Ничего, что в обмороке! Тащить способнее!
И стащил со стола скатерть, чтобы завязать жену в узел и нести.
Уложил Емельяна в нашей спальне, чтобы отдохнул.
На балу тоже вышел инцидент.
Все шло как следует.
Как вдруг в середине котильона Емельян воодушевился, прибежал из буфета на середину зала и скомандовал:
— Ноги вверх…
— Это, — говорит, — революционеры кричат «руки вверх», а по-нашему — «ноги».
Произошло смятение.
Старался объяснить истинно русской шуткой. Однако барышень увезли с бала в обмороке. Досадно. Но сами виноваты. Зачем барышень на бал возить!
9 января
Емельян — подозрительный человек.
Сегодня, встретивши на площади соборного псаломщика, заподозрил его в принадлежности к магометанству.
Заставил его тут же всенародно читать молитвы и, стоя в снегу, бить поклоны.
Потом отпустил. Было много народу
10 января
Это уж бог знает, что такое!
Положим, он член «Союза русских людей». Но все-таки. Емельян сегодня отправился в часть, приказал поднять шары, звонить в звонок и с пожарными, сам на трубе, поскакал в женскую гимназию.
Командовал:
— Качай!
Приказывал качать проходящим. Подставлял к окнам лестницы, кричал:
— Ломай переплеты! Двери! Потолки!
И поливал выбегающих гимназисток водой.
Многие обледенели.
Чтобы выйти из неловкого положения, должен был телеграфировать в Петербург:
«В женской гимназии вспыхнули волнения, грозившие государству. Удалось погасить, не прибегая к помощи воинских частей».
Ах, Емельян!
11 января
Сегодня Емельян меня осматривал.
На предмет принадлежности к иудейству.
— Ты, — говорит, — мне подозрителен, кто тебя знает!
Велел раздеваться.
Разделся.
Емельян похвалил мое сложение.
— Ничего еврейского в тебе не нашел. Можешь одеваться.
Потом хотел осматривать также мою жену.
— А может, ты на жидовке женат? Почем я знаю.
Умолил его, доказывая, что… предмет щекотливый… Вообще, признаков не бывает.
Согласился.
Только взял ее за волосы. Дернул несколько раз.
— Не ходит ли в парике? — говорит.
Дочь — ничего.
Дочь у меня все это время в погребице сидела. Печку ей там железную поставил, чтобы не замерзла. Девушка молодая. Из института. Требований патриотического момента не понимает. Может нагрубить.
12 января
Сегодня мне пришла ужасная мысль. Я вставал, она была еще в постели. И вдруг она мне:
— А вдруг, — говорит, — твой Емельян самозванец. Весь город свидетельствует, а может быть, он в жизнь свою не видел ни Дубровина, ни Пуришкевича! Знаки на теле! А может быть, его секли. Арестант беглый!
Я кинулся и накрыл ей голову подушкой.
Себя не помнил от ужаса.
Тогда пустил, когда хрипеть начала.
— Ты, — говорю, — с ума сошла! Такие слова говорить! Прислуга может услышать! До него дойдет!
Полузадушенная, а свое твердит. Вот женщина. Уши затыкал. Пилит:
— А ты пошли! Пошли!
Допилила.
Послал.
С ужасом жду ответа.
Вдруг Дубровин:
«Не усматривая в вас достаточной веры, предлагаю немедленно оставить должность и сдать ее Емельяну». Ночь, а не сплю. Жду.
13 января
Батюшки!
Что ж это?
Свидетельствовал… Полицеймейстер… Мария Стюарт вприсядку пляшет… Емельян… Гимназистки… Самозв…
Тут чьей-то рукой было приписано:
«У Аммоса Ивановича отнялся язык, правая рука и правая нога, правый глаз стал стеклянным, а левый светится безумием».
К дневнику подшиты два документа:
1) Телеграмма:
«Губернатору такому-то. Никакого Емельяна Березкина Союзом не командировалось. Проверке списков членов такой фамилии не оказалось. Пуришкевич».
2) Форменная бумага:
«Первый департамент Сената. Ввиду того, что постановление об исключении статского советника Карла Карловича фон-дер-Шнель-Клопс со службы без прошения состоялось с соблюдением всех требуемых законом форм, — постановили: прошение об его обратном зачислении на должность полицеймейстера оставить без последствий».
Ивану Петровичу Огурцову, октябристу и члену Государственной думы, вошел согражданин.
— Требухин, Михайло Иванович. Не изволите помнить? Да где!
— Напротив. Вы, кажется, речь изволили говорить при моем избрании.
— Память-с имеете!
— Боже мой! Не помнить единомышленников?!
Очень рад. Прошу садиться.
— В Петербург собираетесь?
— Да, знаете. Предстоящая сессия. Предварительные совещания комиссий. Встреча с товарищами-депутатами. Обмен