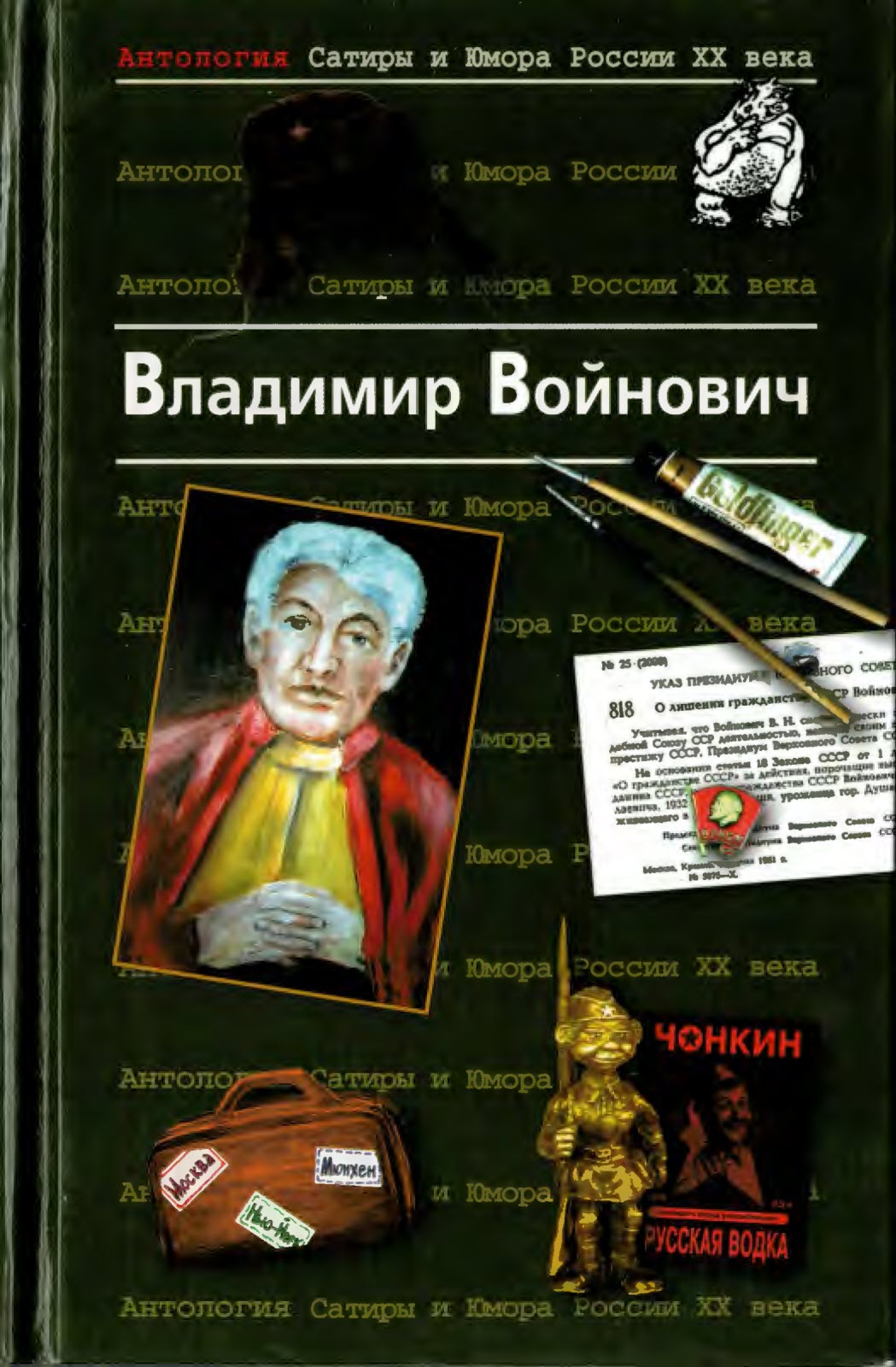подходящего. По всему выходило, что и жизнь его не нужна никому. (Конечно, может быть, с точки зрения великих свершений такое скромное явление природы, как жизнь Чонкина, стоило самую малость, но у него не было ничего более ценного, чем он мог бы поделиться с родным отечеством.)
В печальном сознании своей бесполезности Чонкин покинул объект охраны и двинулся к конторе, вблизи которой собрался и ждал разъяснений народ.
Широким полукругом люди стояли перед высоким крыльцом, обнесенным перилами. Все терпеливо смотрели на обитую драным войлоком дверь, надеясь, что выйдет начальство и добавит подробностей. Мужики хмуро дымили цигарками, бабы тихонько плакали, дети растерянно поглядывали на родителей, не понимая наступившей печали, потому что для детского воображения на свете нет ничего веселее войны.
Была середина дня, палило солнце, время стояло на месте, начальство не появлялось. От нечего делать люди, слово по слову, разговорились. Плечевой, оказавшийся, как всегда, в центре внимания, утешал сограждан, что война эта продлится не дольше чем до ближайшего дождя, когда вся германская техника непременно потопнет на наших дорогах. Курзов с ним соглашался, но предлагал взять во внимание факт, что немец, вскормленный на концентрате. может выдюжить многое. Между собравшимися потерянно толокся дед Шапкин, несмотря на свои девяносто лет, угасающий рассудок и полную глухоту. Шапкин пытался выяснить, ради чего такое собрание, но никто не хотел ему отвечать. Наконец Плечевой сжалился и, сделав вид, будто держится за ручки станкового пулемета, неслышными деду звуками изобразил длинную очередь:
— Ды-ды-ды-ды! — а затем, словно подскакивая на лихом скакуне, стал размахивать над головой воображаемой саблей.
Дед принял это как должное, однако заметил, что в старые времена хлеб сеяли, а потом убирали, прежде чем молотить.
Постепенно толпа расползлась на отдельные кучки, в каждой из которых шел свой разговор, не имевший отношения к тому, что случилось. Степан Луков спорил со Степаном Фроловым, что если сцепить слона с паровозом, то слон перетянет. Плечевой, набравшись нахальства, утверждал, что по клеточкам может срисовать любого вождя или животное.
В другое время Чонкин подивился бы незаурядному дарованию Плечевого, но теперь было не до того. Занятый своими печальными мыслями, он отошел за угол, где находился разрушенный штабель сосновых бревен.
Иван выбрал себе бревно несмолистое, сел и положил на колени винтовку. Не успел достать масленку с махоркой — подоспел Гладышев.
— Сосед, не дашь ли газетки угоститься твоей махорочкой, а то спички дома забыл.
— На, — сказал Чонкин, не глядя. Уже и махорка кончалась. Гладышев закурил, затянулся, сплюнул крошку, попавшую на язык, и шумно вздохнул:
— Эхе-хе!
Чонкин молчал, глядя прямо перед собой.
— Эхе-хе! — еще шумнее вздохнул Гладышев, пытаясь обратить на себя внимание Чонкина. Чонкин молчал.
— Не могу! — всплеснул руками Гладышев. — Разум отказывается воспринимать. Это ж надо совесть какую иметь — кушали наше сало и масло, а теперь подносят свинью в виде вероломного нападения.
Чонкин и на это ничего не ответил.
— Нет. ты подумай только, — горячился Гладышев. — Ведь просто, Ваня, обидно до слез. Люди, Ваня, должны не воевать, а трудиться на благо будущих поколений, потому что именно труд превратил обезьяну в современного человека.
Гладышев посмотрел на собеседника и вдруг сообразил:
— А ведь ты, Ваня, небось и не знаешь, что человек произошел от обезьяны.
— По мне — хоть от коровы, — сказал Чонкин.
— От коровы человек произойти не мог, — убежденно возразил Гладышев. — Ты спросишь — почему?
— Не спрошу, — сказал Чонкин.
— Ну, можешь спросить. — Гладышев пытался втянуть его в спор, чтобы доказать свою образованность. — А я тебе скажу: корова не работает, а обезьяна работала.
— Где? — неожиданно спросил Чонкин и в упор посмотрел на Гладышева.
— Что — где? — опешил Гладышев.
— Я тебя пытаю: где твоя обезьяна работала? — сказал Чонкин, раздражаясь все больше. — На заводе, в колхозе, на фабрике — где?
— Вот дурила! — заволновался Гладышев. — Да какие ж заводы, колхозы и прочее, когда всюду была непрерывная дикость. Ты что, паря, не при своих? Это ж надо такое ляпнуть! В джунглях она работала, вот где! Сперва на деревья лазила за бананами, потом палкой их стала шибать, а уж опосля и камень в руки взяла…
Не давая Чонкину опомниться, Гладышев начал бегло излагать теорию эволюции, объяснил исчезновение хвоста и шерсти, но довести свою лекцию до конца не успел — возле конторы наметилось шевеление, народ зашумел, сгрудился перед крыльцом. На крыльце стоял парторг Килин.
— По какому случаю собрались?
Свободно облокотясь на перила, Килин переводил взгляд своих маленьких рыжих глаз с одного лица на другое, ожидая, пока все угомонятся и стихнут. Люди переглянулись, не зная, как объяснить очевидное.
— Ну? — Килин остановил взгляд на бригадире полеводов. — Ты что скажешь, Шикалов?
Шикалов смутился, попятился, наступил на ногу Плечевому, получил подзатыльник и остановился с раскрытым ртом.
— Я жду, Шикалов, — напомнил Килин.
— Да ведь я… Да ведь мы… Так сообщение ж было, — обрел наконец голос Шикалов.
— Какое сообщение?
— Вот тебе раз! — удивился Шикалов, озираясь как бы в поисках свидетелей. — Чего дурочку валяешь? Не слыхал, что ли? Было сообщение.
— Что ты говоришь! — Килин всплеснул руками. — Неужто было сообщение? И что ж, в этом сообщении говорилось, что больше никому работать не надо, а надо сбираться в кучу и создавать толпу?
Шикалов молча поник головой.
— И что за люди! — с высоты своего положения сетовал Килин. — Никакой тебе сознательности. Вам, я вижу, хотя б и война, только бы не работать. Всем разойтись, и чтоб через пять минут я здесь не видел ни одного человека. Ясно? Ответственность возлагаю на бригадиров Шикалова и Талдыкина.
— Так бы сразу и сказал! — обрадовался Шикалов привычному делу и повернулся лицом к толпе. — А ну разойдись! Эй, мужики, бабы, поглохли, что ль? Кому говорят! Тк что стоишь, хлебальник раззявила! — Шикалов, выставив вперед волосатые руки, пихнул бабу с ребенком. Баба заорала. Закричал и ребенок.
— Ты чего толкаиси? — попытался вступиться за бабу Курзов. — Она же с дитем.
— Иди, иди! — двинул его плечом Шикалов. — С дитем, не с дитем, каждый будет тут еще рассуждать.
Подлетел и маленький Талдыкин, набросился на Курзова, уперся ему в живот маленькими ручонками.
— Ладно, ладно, милый, — затараторил он скороговоркой. — Нечего зря шуметь, нервы тратить, пойди домой, отдохни, попей винца…
— А ты не толкайся! — все еще противился Курзов. — Нет такого закону, чтобы толкаться.
— А никто и не толкается, — ворковал Талдыкин. — Я только так шчекочуся.
— И шчекотаться закону нету, — упорствовал Курзов.
— Вот тебе закон! — заключил Шикалов, поднеся к носу