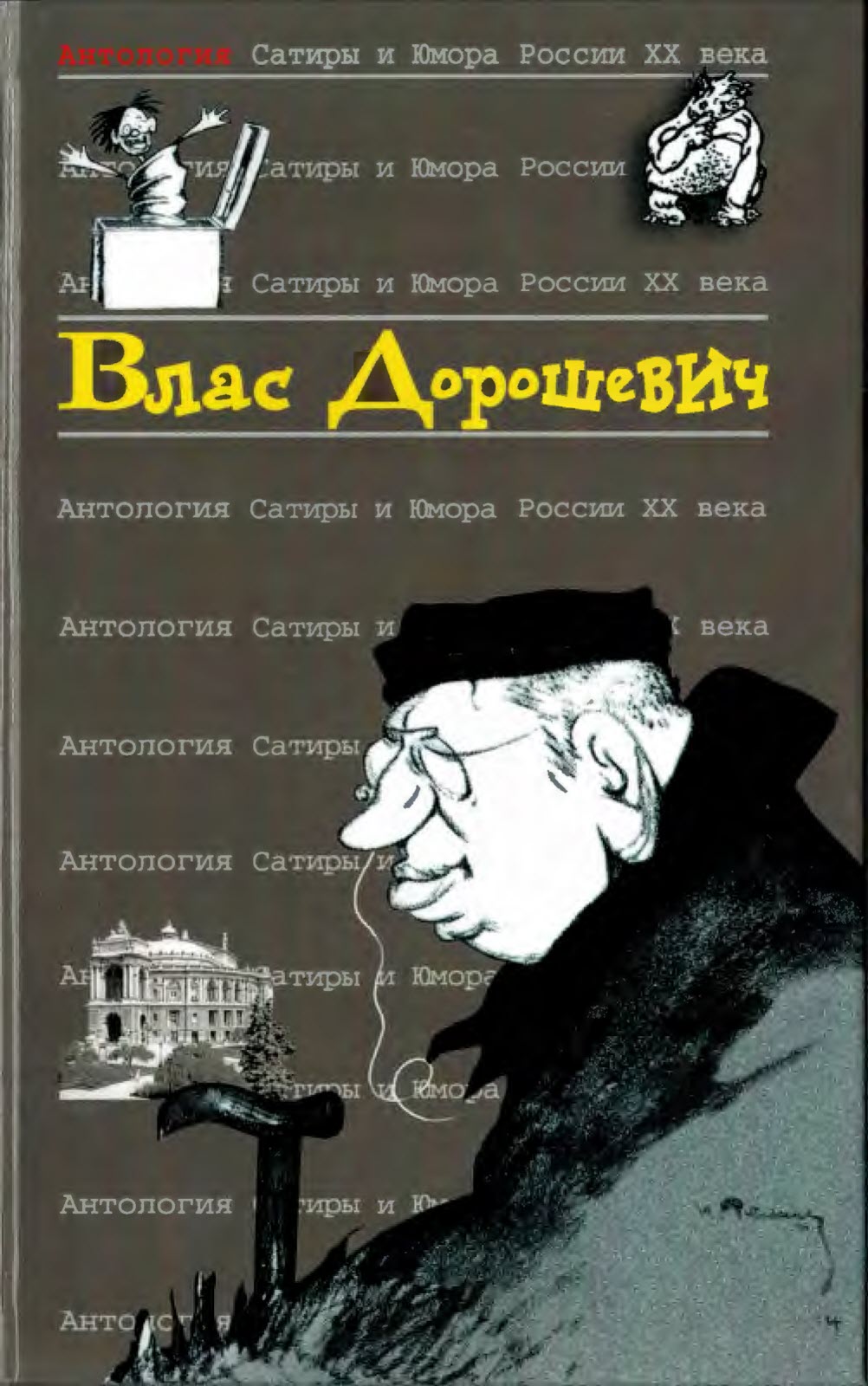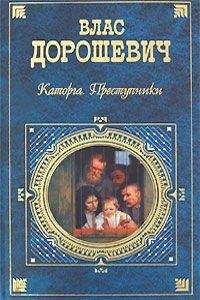зарезали, — а и то ничего не говорит!
— Я, — говорю, — ваше преосвященство, ежели у меня мысль сомнительная и явится, — я ее в тайниках моей души держу. Как в тюрьму запираю. Иногда друзьям расскажу. Ведь и узников из тюрьмы пускают погулять. Но чтобы совсем ее на свободу выпустить! На площади! На улицы! Ведь это все равно что разбойника пустить на свободе по городу бегать.
— Так впредь всегда и поступай!
Принял благословение и похвалу со смирением. Проповедником сделался. К крестоносцам речи держал:
— Спешите, летите, воинство небом благословенное! Ждет, томится по вас Святая земля! Изнывают святыни под властью неверных! Спешите, поспешайте!
Пусть убираются.
Может, их там сарацины перережут!
И что ж бы вы думали?
И тут я оказался прав.
Не успели они до Палестины дойти — все погибли!
Тут я, я первый, окрестил их на вечные времена:
— Сволочью Петра Амьенского!
Удивительное дело!
Какому-то Петру Амьенскому позволяют народ булгачить, войска собирать, на войну идти, города в убыток вводить, чужих овец резать. Чего начальство смотрит? Видел я этого Петра Амьенского.
Пустынник как пустынник. Ничего особенного!
— Босой! Босой!
Да и я сапоги сниму — босой буду. Нашли чему радоваться!
Засадить бы его сразу за появление в общественном месте в неприличном виде — никаких бы и Крестовых походов не было. И овцы у добрых людей были бы целы.
— Крестовые походы! Крестовые походы!
Никаких и Крестовых походов не было. Просто — попущение начальства.
В предпоследний раз я жил в Париже. В конце 18-го века.
Натерпелся.
Помню один денек:
— 10-е августа.
1792 года.
Всю ночь не спали.
В полночь набат ударил. И всю ночь над Парижем стоял. По улицам факелы, передвигаются отряды. Национальная гвардия. «Граждане» с пиками.
— С пиками!
Вы только подумайте!
Утром, — слышим, — пальба.
— Ну, ну! Как они там из пик в ответ стрелять будут?
А как грянула пушка, мы все за голову схватились.
— Погибло народное дело!
Еще пушка, еще!
Как? Так рисковать судьбой всей нации?
С голыми руками, «с пиками», — изволите ли видеть, «с пиками»! — на пушки лезть!
И кто все поднял?
В нашем же доме жили Люсиль Дюмулен и madame Дантон.
— Вот чьи мужья!
Я всегда любил наци. Для меня нация выше всего.
— Свобода, равенство, братство! И вот теперь все это гибнет.
Пушка!
— И из-за чего?! Из-за кого! Граждане? Какой-то несчастный писака, возомнивший о себе! Заика, дрянь! Какой-то адвокатишка без практики! Им нечего терять!
Пушка!
— А?! Вы спрятались, сударыни!
Обе дамы сидели ни живы ни мертвы. Дантонша, та совсем в обмороке лежала. Дюмуленша, вся в слезах, еще кое-как держалась.
Пушка!
— А? Вы страдаете? Ваши сердца обливаются кровью за ваших мужей? Как же мы должны страдать? Как наши сердца должны обливаться кровью за страну? За нацию? За свободу? За равенство? За братство? Все, все погибло!
Пушка!
Нет, вы вообразите себе наглость этих дам.
К соседям присылают:
— Нет ли чашки кофе для madame Дантон!
Тут уж меня взорвало.
Пушка!
— Гражданки! Граждане! В древнем, в доблестном Риме граждан, которые навлекли на отчизну такое бедствие, и их семьи лишили бы огня и воды! В Риме, с которого мы все должны брат пример гражданской доблести! Не давать этим дамам кофе.
Пушка!
Наши дамы было разорвать их хотели.
Я остановил:
— Гражданки, не надо! Зачем? Мы их просто свяжем и передадим королевским комиссарам, по начальству. Те уж знают, что с ними сделать!
Пушка!
И вдруг все смолкло.
Ужасные полчаса.
И вдруг бегут люди, кричат:
— Свобода! Свобода!
Оказывается — ошибка.
Мы думали, что это из Тюльери из пушек палят. А оказывается, пушки-то были у наших.
Это наши стреляли. Наши!
Вот была радость!
Я плясал.
А через час вдруг подъезжает карета.
— Здесь живет гражданка Дантон, супруга гражданина министра юстиции?
Разумеется, мы не дали гражданке Дантон идти в карету.
Разумеется, донесли ее на руках.
Я имел счастье передать гражданке Дантон чашку черного кофе в карету.
Пусть выпьет дорогой.
Ничего, что у меня чашка пропадет. Такое событие! Да она и не из сервиза.
А гражданке Люсиль Дюмулен я имел удовольствие поднести цветы.
Не знаю уж даже, откуда у меня и цветы взялись.
Словно нарочно в квартире выросли.
Гражданку Дюмулен я видел еще только раз.
В трудную минуту ее жизни.
Когда ее провозили на казнь.
Она ехала в подвенечном платье.
— К своему Камиллу!
Мне это тогда не понравилось.
— По-моему, так ехать на казнь даже неприлично!
Это значит афишироваться.
Я тогда же сказал об этом соседям.
Я не привык скрывать своих мыслей.
Что говорю, то и думаю.
— Зачем такая реклама?
Ну, что такое был Дюмулен?
Журналист как журналист. Ничего особенного.
Теперь мне жить, прямо скажу, трудно.
На две газеты должен подписываться.
На «Товарища» был подписан и на «Новое Время».
«Товарищ» — для души. «Новое Время» — для знакомых.
Я человек семейный.
Семейному человеку без «Нового Времени» нельзя.
«Новое Время» — что на дверях дощечка:
— Застрахован в обществе «Якорь».
У меня всякий народ бывает.
Пусть видят, — на столе «Новое Время».
— Что? Выкусили?
Для души выписывал «Товарища».
Хорошо писали!
Но когда «Товарища» закрыли, я, конечно, осудил:
— Порядочных органов и так мало. Какое же право они имели, с общественной точки зрения, рисковать? Рисковать газетой? С печатным словом, господа, надо обращаться бережно!
Разве я не прав?
Подписываться на газету на год, и вдруг через два месяца…
Но я, конечно, не об этом.
Не в подписных деньгах дело, а в принципе.
Честный орган печати — его хранить надо. Освободительное движение нуждается…
Батюшки, пока размышлениям предавался, кошелек из кармана свистнули.
— Вот вам и ваше освободительное движение!
Шаляпин в «Мефистофеле»
(Из миланских воспоминаний)
Представление «Мефистофеля» начиналось в половине девятого.
В половине восьмого Арриго Бойто разделся и лег в постель.
— Никого не пускать, кроме посланных из театра.