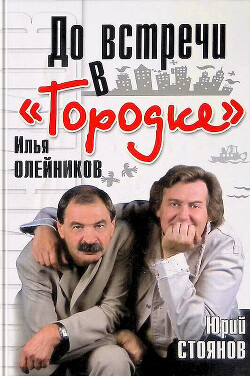Роль не задалась. То ли партизаны волокли меня вяло, то ли я не настроился, но когда девушка спросила: «Кто этот человек?», я промямлил нечто непотребное.
— Что?! — бесновался Мутафов. — Почему?! Человека ведут на виселицу, а ты бубнишь под нос, как старый еврей на молитве.
— А при чем здесь старый еврей? — обиделся я.
— Не надо мне шить антисемитизм, — продолжал бушевать Мутафов. — У меня бабушка еврей!
— Да ничего я не шью, — оправдывался я. — Просто партизаны волокут меня без настроения.
— Ах, значит, мы волокем без настроения? — обиделись в свою очередь партизаны. — Ну, пойдем!
Их тон не сулил мне ничего приятного в ближайшие полчаса. Обидевшиеся партизаны потащили меня так, что стало ясно — будет больно. Даже очень больно. И когда командирша в очередной раз кокетливо спросила: «Кто этот человек?», я заверещал что было мочи:
— Я — священник Веласкес из Сьюдад-Трухильо! Только не бейте меня больше — я все скажу!
— Хор-рошо! — успокоился Мутафов. — Хор-рошо! Но уже лучше! Только без отсебятины.
Он ничего не понял. Это была не отсебятина. Это был крик души. Я подумал, что если партизаны позволяют себе такое на репетиции, то на спектакле они могут так разойтись, что я буду просто размазан по стенке.
Через несколько дней я прочел в вечерней газете объявление о наборе в кукольный театр учеников кукловодов с зарплатой сорок рублей. Больше рубля в моем кармане не водилось. Сумма показалась мне значительной. Я явился на показ.
Выбирать было не из кого, поскольку только я один и явился.
Главреж окинул меня взглядом с головы до пят, словно отсматривал не кандидата в кукловоды, а проститутку в бордель.
Впечатления на него я явно не произвел. Он вяло спросил:
— Рост у тебя какой?
— Сто девяносто сантиметров, — отрапортовал я.
— Высоковат. А ширма — метр семьдесят.
— Ничего! — рапортовал я. — Пригнусь.
— Ну-ну, — протянул главреж, — посмотрим. На-ка, роль почитай.
— Сразу роль? — не поверил я.
— А что делать? Людей-то нету, — он сокрушенно развел руками, как бы давая мне возможность самому убедиться в том, что людей и вправду нет. И я понял, что берут меня не из-за искрометности моего таланта, а ввиду полной безысходности.
Роль, порученная мне в кукольной труппе, мало чем отличалась от Веласкеса. Это была роль барсучка. Оптимистично настроенный барсучок с рюкзаком за плечами выныривал налесную опушку, распевая песенку следующего содержания:
Эй, с дороги, звери-птицы,
Волки, совы и лисицы.
Барсук в школу идет,
Барсук в школу идет.
— Ты куда, барсучок? — весело спрашивает белочка, настроенная не менее оптимистично.
— В школу иду! — еще веселей отвечает барсучок.
— А там интересно? — спрашивает белочка, на всякий случай добавив еще несколько градусов веселья.
— Оч-чень! — уже на пределе оптимизма визжит барсучок и уходит в прекрасное далёко.
Надо отдать должное — роль я выучил быстро. Возникло препятствие другого рода — я решительно не вписы вался в ширму. Я выгибался до максимума, и от этого рука, держащая барсучка, выписывала такие кренделя, что у детей возникало антивоспитательное убеждение: барсук идет в школу не просто выпивши, а нажравшись до самого скотского состояния. Если же я выпрямлялся, то над ширмой величаво маячил черный айсберг. А, как известно, айсберги, да еще черные, в европейских лесах нечасто появляются. Даже в сказках. Загадка разрешалась просто — это была макушка моей аккуратно подстриженной головы.
Главреж стонал, но уволить меня не мог. Артистов катастрофически не хватало. И тогда он принял поистине соломоново решение. Он заказал у декораторов шапочку в виде пенька. Я надевал пенек на голову, и, как только барсук появлялся над ширмой, вместе с ним появлялся и пенек-голова. Барсучок вальяжно на нем (или на ней) разваливался, отбарабанивал весь свой текст, а уходя как бы невзначай прихватывал с собой и пенек. Детям нравилось.
На одном из спектаклей случилось непредвиденное — с белочки свалилась юбка. Белочка, все это знают, — особь женского рода и посему была одета в юбку. Когда вышеуказанная юбка сверзилась с беличьего тела, я воспринял это однозначно — баба исподнее потеряла. Я (как барсучок) был настолько потрясен этим бесстыдным стриптизом, что меня отбросило за кулисы. Из зала даже показалось, что барсук перед своим позорным бегством прошептал возмущенно:
— Что ж ты, сучка, делаешь?
Меня выгнали. И я подумал: «А на кой ляд мне сдался этот кукольный?» Тем более, что меня уже все больше привлекала эстрада. Ее мишурный блеск слепил.
— Вот это — мое! — думал я. — Вот это — мое!
И, в одночасье собравшись, уехал в Москву. В эстрадно-цирковое училище.
Глава пятая,
в которой я наконец приобщаю искусство к себе
И вот я стою в экзаменационном зале один на один с приемной комиссией. Стою, как стоял под Москвой в грозном сорок первом генерал Панфилов. Насмерть. Отступать некуда. Поэтому на подиум, подхалимски сутулясь, вышел журавлеобразный юноша с большой задницей и маленькой змеиной головкой. Ноги заканчивались лакированными стоптанными шкарами и коричневыми штанами, сильно стремящимися к лакированным штиблетам, но так и не сумевшими до них дотянуться. Все оставшееся между коричневыми штанами и черными башмаками пространство было заполнено отвратительно желтыми носками. А заканчивался этот со вкусом подобранный ансамбль красной бабочкой на длинной шее. Она развевалась, как флаг над фашистским рейхстагом, предрекая комиссии скорую капитуляцию.
— Как вас зовут? — спросили меня.
— Илюфа.
В комиссии недоуменно переглянулись.
— Как-как?
— Илюфа, — скромно ответил я, про себя поражаясь их тупости.
Следует пояснить, что, поскольку первые восемнадцать лет я провел в Кишиневе, то разговаривал я на какой-то адской смеси молдавского, русского и еврейского. К этому «эсперанто» прибавлялось полное неумение произносить шипящие и свистящие. Вместо С, 3, Ч, Ш, Щ, Ц я разработал индивидуальную согласную, которая по своим звуковым данным напоминала нечто среднее между писком чайного свистка и шипением гадюки. Что-то вроде «кхчш». Все это фонетическое изобилие подкреплялось скороговоркой, что делало мою речь совершенно невразумительной. Меня понимали только близкие и друзья. По каким-то интонационным оттенкам, мимике и телодвижениям они улавливали генеральное направление того, что я хотел сказать, а уж дальше полагались на свою интуицию.
Очевидно, увидев, а тем более услышав меня, экзаменаторы предположили, что я являюсь посланцем неведомой имтдоселе страны. Однако, посовещавшись, пришли к единому мнению, что я таким странным образом заигрываю с ними.
— Значит, Илюфа? — приняли они мою игру.
— Илюфа! — подтвердил я, ничего не подозревая.
— И откуда фе вы приефафи, Илюфа? — раззадоривали они меня.
— Иф Кифинефа, — лучезарно отвечал я.
— Ну, фто фе, Илюфа иф Кифинефа, пофитайте нам фто-нибудь.
Они явно входили во вкус. «Ну, засранцы, держитесь!» — подумал я, а вслух сказал:
— Фергей Мифалков. Бафня «Жаяч во фмелю».
В переводе с моего на русский это означало: «Сергей Михалков. Басня „Заяц во хмелю“».
Ф жен именин,
А, можеч быч, рокжчения,
Был жаяч приглакхчфен
К ехчву на угохчфеня.
И жаяч наф как сел,
Так, ш мешта не кхчшхкодя,
Наштолько окошел,
Фто, отваливхкчишкхч от фтола,
Ш трудом шкажав…
Что именно сказал заяц, с трудом отвалившись от стола, комиссия так и не узнала. Я внезапно начал изображать пьяного зайца, бессвязно бормоча, заикаясь и усиленно подчеркивая опьянение несчастного животного всеми доступными мне средствами. И когда к скороговорке, шипенью, посвистыванью и хрюканью прибавилось еще и заячье заикание, комиссия не выдержала и дружно ушла под стол. Так сказать, всем составом.