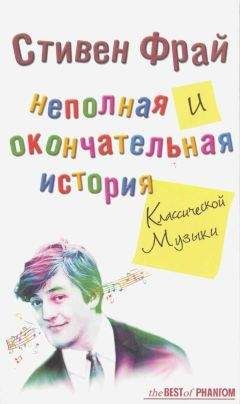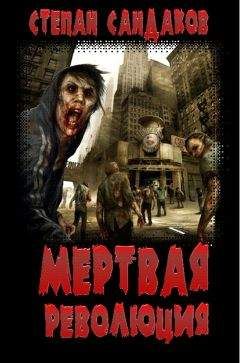Тут есть значительное сходство с собственно живописцами; говоря совсем грубо, художники могут писать либо В ТОЧНОСТИ то, что видят, либо нечто совсем абстрактное. У нас имеется компания импрессионистов, остановившихся на середине пути между первым и вторым, ну а затем множество точек на этом кривом пути: Сёра с его пуантилизмом, Брак с его кубистским видением — самые разные способы передачи «того, как я это вижу». То же и с композиторами. Одним из них хочется столкнуть вас нос к носу с тем, что происходит в их головах, другие стремятся дать лишь общее представление о том, на что это происходящее похоже, а есть и те, кто предпочитает, чтобы вы просто слушали музыку, которая в их головах звучит. И хочется верить, что так оно всегда и будет.
ПОЕХАЛИ
Отлично. Вообще-то говоря, 1842-й был годом отнюдь не легким. На беду всех ценителей искусства, в самых высоких кругах высшего света вошел в моду чешский национальный танец, именуемый «полькой». И лучшие представители этих кругов изображали, бедняжки, законченных идиотов, скача и попрыгивая, точно отшельники в отпуске. Примерно в одно время с польками мир увидел также статью «Об окраске двойных звезд».
Ну и что? — спрашиваете вы. Ладно, позвольте вам сообщить, что статья эта была написана и напечатана неким К. И. Доплером.
Ну так и что же? — восклицаете вы. А тогда я вам вот что скажу: это именно та статья и тот самый Доплер, которому мы обязаны эффектом, известным ныне как… «эффект Доплера». Что, съели?
Ладно, ладно. Пусть. Я понял. Как с гуся вода. Хорошо, пошли дальше — тут больше смотреть не на что.
Ну-с, перейдем к так называемому «Навуходоносору». Это не просто и не обязательно magnum opus[*], так сказать, однако он оказался поворотным моментом для молодого композитора из Бусетто, города в итальянской провинции Парма.
Джузеппе Фортунино Франческо Верди, если назвать его полным, хоть и вызывающим некоторую озабоченность именем, родился в деревушке Ле Ронколе, близ Бусетто. И вел жизнь вполне заурядного селянина — почти, за вычетом одной случившейся с ним в раннем возрасте странности. А именно: как-то раз, когда он прислуживал в церковном алтаре, священник заметил, что мальчик уделяет куда больше внимания звукам органа, чем своим церковным обязанностям. В результате падре поступил так, как поступил бы на его месте всякий достойный своего звания падре, — дал мальчишке хорошего пенделя, отчего тот скатился по алтарным ступеням и остался валяться под ними в состоянии почти коматозном[♫]. Как ни странно, Верди никогда всерьез не думал о том, чтобы начать музыкальную карьеру в церкви, — так что, возможно, тот католический священник оказал итальянской опере наибольшую из возможных услугу.
Впрочем, в возрасте двадцати трех лет у Верди появились еще большие, быть может, основания поставить на музыке крест. Он отправился искать музыкального счастья в большой город, в Милан, и только затем, чтобы его бесцеремонно выставили оттуда, даже не позволив получить музыкальное образование: власти предержащие отказались принять его в консерваторию. «Отсутствие фортепианной техники», — сказал один умник; «Слишком стар», — сказал другой; «Недостаточно одарен», — сказал третий. В итоге Верди уполз назад, в родной Бусетто, и получил там место директора филармонического общества. Таковым он мог бы навсегда и остаться. Крупной, но не достигшей полного развития рыбой в мелком пруду. Однако не остался.
Вернувшись в Бусетто, Верди женился. Жену звали Маргеритой, и, несмотря на то что женщиной она была совсем простой — выросшей на одних только сыре да помидорах, — у них родилось двое детей. Увы, все обернулось трагедией: дети умерли в младенчестве, а всего два года спустя Верди потерял и жену. И поступил так, как поступали до него многие музыканты — целиком посвятил себя музыке.
Дни он отдавал музыке городской, ночи — своей собственной. Он трудился над оперой. Верди возлагал на нее большие надежды и тратил каждую свободную минуту, подправляя ноту в одном месте, меняя оркестровку фразы в другом. Он был настолько уверен в победе, в своем magnum opus, что снова отправился в Милан, прихватив законченную оперу. И, как это ни удивительно, в 1840-м известнейший оперный театр мира, миланский «Ла Скала», принял ее к постановке — оперу человека, которого и в консерваторию-то не допустили. Верди был прав. Миру предстояло изумленно дрогнуть и заинтересоваться его творением.
Хотя нет, прав он был лишь отчасти. Миру действительно предстояло дрогнуть и заинтересоваться — но только не этой его оперой. Вот я вам сейчас сообщу, как она называлась, а вы скажете мне, когда вам в последний раз довелось увидеть это название в брошюрке с репертуаром какого-либо оперного театра на предстоящий сезон?
И я о том же. Больше и говорить ничего не надо, так? Впрочем, не получив места в истории, опера эта тем не менее получила место в «Ла Скала», в сезоне 1840/41, и добилась скромного, но все же успеха. И Верди заказали еще одну. НУ УЖ ЭТА! УЖ ЭТА-ТО точно обратится в magnum opus. Уж эта в историю войдет. И Верди сочиняет оперу под названием
Да, все верно. Очередной промах. Да еще и двойной, с сыром. Король-мазила, так сказать, ибо этому сочинению не только не светит место в истории, оно и в сезоне «Ла Скала» 1841 года приличного места себе не приискало. Верди почти сдался. Вот посмотрите на него — он потерял жену и детей, бросил хорошую работу в родном городе, добился небольшого, но все-таки успеха с первой своей оперой, а теперь провалил вторую. Не на такое начало он уповал. В общем, Верди решил махнуть на это дело рукой. И даже посетил оперного импресарио, человека по фамилии Мерелли, причем с совершенно определенной целью — сказать, что надумал бросить все к чертовой матери. Однако у Мерелли имелась другая идея.
К Мерелли обратился либреттист Солеро, показавший ему «книжечку», как это принято называть в оперных кругах, посвященную истории Навуходоносора, — действие разворачивается в Иерусалиме и Вавилоне 568 года до Р.Х. Не обращая внимания на протесты Верди, Мерелли сунул ему манускрипт в руки, вытолкал композитора из дома и запер за ним дверь. Верди несколько минут взывал с улицы к совести коллеги, но тщетно. Обуреваемый отчаянием, он удалился в ближайшую кофейню и потребовал, чтобы ему подали чашку эспрессо.
Когда принесли кофе, либретто упало на пол да и открылось. Как раз на той странице, где Верди смог прочитать слова «Va, pensiero, sull’ali dorate» — «Лети, мысль, на золотых крыльях». Мозг его немедля начал перебирать сокрытые в этих словах музыкальные возможности. Верди задумался. Через несколько минут он надел пальто, бросил на столик несколько монет и поспешил домой. Ко времени, когда он добрался до дому, в голове его почти целиком сложился один из хоров новой оперы. Все, что осталось сделать Верди, — это, так сказать, «скопировать» хор, перенести его из головы на бумагу. То был «Хор иудейских рабов» — опера «Набукко». Она произвела переворот в карьере Верди, полностью изменив путь, по которому шла итальянская опера. Всего лишь за год она сумела вновь воцариться в мире, а Верди обратился в знаменитейшего ее композитора.
Официально эта опера носит название «Навуходоносор». Слава всевышнему, Верди укоротил его до «Набукко». С операми такое случается нередко. Они вообще похожи на породистых выставочных собак: одно имя нормальное, другое, попросту смехотворное, — клубное. Нередко мы полагаем, будто нам известно, как называется опера, а на самом деле называется она совсем иначе. «Cosi fan Tutte» («Так поступают все женщины»), например, обозначается в программках следующим образом: «Cosi fan Tutte ossia La Scuola degli Amanti» («Так поступают все женщины, или Школа влюбленных»). Ну просто врезается в память, не правда ли? Бетховенская «Фиделио» получила звание «Чемпион породы», выступая под именем «Фиделио, или Супружеская любовь». Все же яснее ясного! Нормальный итальянец на таких названиях себе просто язык сломал бы, что, по слухам, и случилось с Вивальди.
Еще одной причиной успеха «Набукко» могло быть состояние, в котором пребывала тогда Италия. Итальянским националистам оставалось дожидаться объединения страны еще лет двадцать без малого, так что символика «Набукко», с ее порабощенными героями, от соотечественников Верди не ускользнула. «Va, pensiero» обратился в национальную музыкальную заставку, коей открывался каждый эпизод борьбы с австрийскими угнетателями.
НАРОД ДОЛЖЕН ПЕТЬ ДЛЯ НАРОДА
Бок о бок с Верди и «Набукко» в Италии шагали Глинка и «Руслан и Людмила» в России. Обе битком набиты отличными напевными мелодиями, обе относятся к 1842-му, и обе явственно изображают прорастающие в их странах семена национализма.
Глинка представлял собой, в чем никто из нас и не сомневается, поразительную мешанину самых разных влияний, случайных знакомств и мелких капризов истории. Родившийся близ Смоленска в 1804 году, он рос преимущественно в одном из тех повергающих в оторопь русских поместий, о которых ныне остается только мечтать, — у дяди его имелся даже собственный домашний оркестр. Взяв в Санкт-Петербурге несколько уроков у Джона Филда — да-да, у Джона Филда, композитора: Филд приехал в Россию, совершая турне со своим тогдашним боссом, пианистом-композитором Клементи, потом Клементи уехал, а Филд остался. Выглядит сложновато, но вы, главное, не отставайте, держитесь со мной вровень, — так вот, после этого Глинка, вполне осознанно, решил, что нуждается в навыках, каковые помогут ему сочинить «великую русскую оперу». Но прежде чем заняться этим, необходимо, понятное дело, приобрести навыки, позволяющие сочинить хотя бы просто «великую оперу». Логично, не правда ли? И что же сделал Глинка? Отправился, что опять-таки понятно, к опере на дом — в Италию, — решив поучиться у мастеров. Познакомился там с Беллини и Доницетти и, что намного важнее, познакомился с операми. Со многими и многими операми. Покончив с этим, он пошел в ученики к Большому Дону. Виноват, тут у меня описка. Следует читать «к великому Дену»: Зигфриду Вильгельму Дену, весьма почтенному музыковеду и теоретику. Когда же Ден счел Глинку готовым, то просто отослал его от себя, сказав: «Поезжай домой и пиши русскую музыку», чем Глинка послушно и занялся.