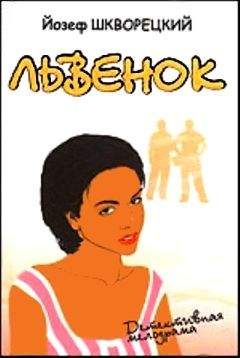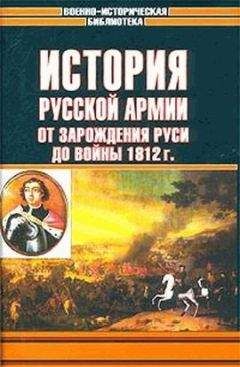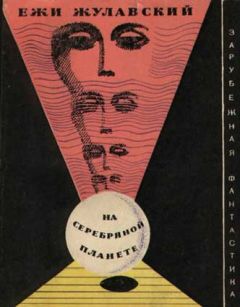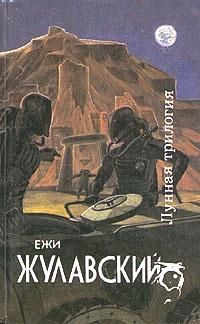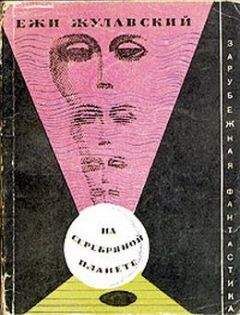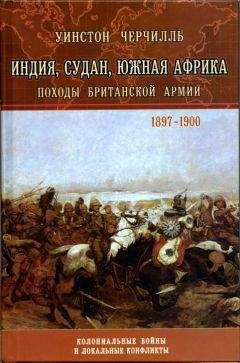Лето продолжалось, жаркое, пыльное — и вдруг подошло к концу. Примерно в середине августа я получил фотографии с собачьей выставки. Положил их на дно чемодана, однако, как оказалось, от соседей по палатке это не укрылось, и, когда мета не было, они устроили из них выставку. Я сказал, что это моя невеста, и потом с каким-то извращенным наслаждением долго выслушивал шутки женатиков.
От Вашека я получил еще одно послание — «привет из Доке, где я на воскресной экскурсии». Разумеется, он поехал туда не один, я не мог себе представить, чтобы Вашек в одиночестве отправился в это гнездо мещанства. Хотя обычно на письмах Вашека бывали подписи по крайней мере тати абсолютно мне неизвестных личностей (так этот вечно обиженный жизнью неудачник компенсировал отстутствие одной-единственной, но зато по-настоящему важной подписи какой-нибудь спутницы), на этом послании ничего такого не оказалось. Сначала я подумал, что его вытащила туда Вера, которая не подписалась по вполне понятным причинам, но потом я обнаружил в газете заметку о том, что режиссер Геллен намерен в своем новом фильме поручить главную роль прежде неизвестной артистке Театра балета, «с которой он запечатлен на нашем снимке на кинофестивале в Карловых Варах». «Неизвестная артистка» была на фотографии похожа на множество других артисток, известных и неизвестных, однако балетная позиция Вериных знакомых ног не дала мне шанса на ошибку. Итак, о ней уже позаботились; меня могли больше не мучить угрызения совести, и если в эту ночь я не спал, то вовсе не из-за Веры, а из-за тайны, пахнувшей на меня с неподписанного послания Вашека. До самого утра она не давала мне покоя; меня терзали смутные подозрения. Я никак не мог отделаться от них, то мне все это казалось невероятным, то очень даже возможным — и так по кругу, безостановочно. Я ничего не надумал. И утром написал последнее письмо барышне Серебряной.
Два дня я носил его в кармане, говоря себе, что ни за что не опущу в почтовый ящик такую муру. Это было совершенно идиотское признание в любви, полное болезненного эксгибиционизма и содержащее даже наиглупейшую теорию о том, что бабником я сделался лишь потому, что раньше ни одна женщина меня не понимала. Разум подсказывал мне, подобно капитану Вавре в лучшие его дни, что надо смять это письмо и выбросить его вон, а то и сжечь; но от него исходили какие-то оглупляющие флюиды. На третий день я отправил его прямо с городского почтамта, а на четвертый день моя служба кончилась. В поезде ребята напились и дальше уже ехали к ненавистным женам, осточертевшим любовницам и милым сердцу пивным под собственный аккомпанемент до безобразия неприличных песен. Я не пел. Я глядел из окна на бронзовое солнце первых сентябрьских дней и гадал, что будет дальше. И чего я, черт возьми, хочу от этой жизни.
То есть я и раньше этого не знал. Но раньше мне это было совершенно безразлично.
Глава двенадцатая
Сцена с кепкой
Я приехал в середине дня. В шесть вечера, преобразившись в штатского, я опять стоял на улице Девятнадцатого ноября, которая все лето являлась мне в снах. Она сияла в них многогранником разноцветных стекол; многогранником, который был залит блеском мокрых от дождя крыш и одновременно напоминал искусственную луну из какого-нибудь эстрадного ревю; на этой улице нежно позвякивали каблучки и что-то шептал голосок загорелой девушки, похожий на голос гобоя.
Я опять изнывал перед зеленым подъездом — в конце легендарного пути, ведшего к проклятию, с головой, повернутой назад. Тень, отбрасываемая домами на противоположной стороне улицы, не достигала самого верхнего этажа, и он сверкал и искрился на сентябрьском солнце не хуже золотых сказочных чертогов. Из открытого окна напротив опять лились диковинные причитания саксофона: незнакомый аффиционадо с улицы снов тоже не изменял своей любви.
Я вошел в дом и медленно двинулся вверх. Вообще-то там был лифт за двадцать пять геллеров, но я пошел пешком, уподобясь пилигриму, преисполненному смирения. У меня было неприятное чувство, что я делаю нечто такое, чего не следовало бы делать вовсе. Да только барышня Серебряная давно уже лишила меня разума, гораздо раньше того момента, когда я в Медзигоренеце опустил в почтовый ящик свое мальчишеское послание.
Наконец я остановился перед дверью, на которой была укреплена от руки надписанная карточка «Л.Серебряная», и позвонил. И она мне открыла.
Вроде бы я не обладал так называемым «женским глазом», но то, как была одета Ленка, замечал всегда. Словно это было абсолютно неотъемлемо от ее природной красоты. На этот раз она стояла передо мной в серо-белой полосатой юбочке в складку и васильковой кофточке с пуговицами цвета меда. Вихрастую головку окружал венец из солнечных лучей, похожий на барочный нимб, потому что за девушкой светился в открытом окне западный горизонт, а над ним сияло красное, как на картинах сюрреалистов, солнце. Глаза у нее были неподвижные, темные, и в зрачках отражался я, трусливый служитель разврата.
— Здравствуйте, — произнес я кротко.
— Ах, это вы?
— Я.
— Что ж… — Она оглянулась через плечо, точно ища что-то в комнате.
— У вас гости?
— Н-нет, — нерешительно ответила она, стоя в дверях и не трогаясь с места. Возле ее стройной ноги возник черный кот Феликс и поднял на меня свои желто-зеленые глаза.
— Не сердитесь. Я должен был увидеть вас.
— Ну да. — Она сглотнула, и по нежной смуглой коже на шее прошла волна. — Но… лучше бы вам сюда не приходить.
— Я понимаю. У меня даже не хватит смелости сказать вам, что я зашел только выпить чашку кофе. После того позора…
— Забудьте об этом, — сказала она, по-прежнему не двигаясь. Ни намека на желание пригласить меня войти, но и ни намека на желание захлопнуть дверь у меня перед носом. Кот двинулся обратно в прихожую и остановился перед узкой дверью, ведущей скорее всего в туалет. Он принюхался к ее нижнему краю, а потом поднялся на задние лапы и попробовал дотянуться до дверной ручки. Это ему не удалось, а барышня Серебряная на помощь не поспешила.
— А… — проговорил я, — а не мог бы я… действительно всего на минутку…
— Лучше не надо.
Мы оба все еще не двигались, ни я, ни она, и вместо взаимного притяжения, объединявшего нас силовым полем тогда на водной станции, теперь между нами возникла невидимая стена; высокая, с торчащими наверху осколками стекла, через которую я, городской мальчишка, никогда не мог перелезть. Слышалось только тихое царапанье кошачьих коготков. Мне пришло в голову, что я нахожусь в положении типичного нищего. На лестничной площадке, у двери.
— Вы получили мои письма?
— Получила. Только больше мне не пишите.
— Ладно. Не буду.
Мы опять умолкли.
— Ну, до свидания, — сказала Серебряная.
Но мне хотелось продлить эти минуты, пускай они и были донельзя мучительны, пускай я и занимался сейчас самоистязанием.
— Погодите. Мне бы следовало уйти. Я знаю. Но я… я просто…
Я не знал, что сказать, я только хотел продлить это изгнание из рая… ведь, несмотря на поражение, я все-таки оставался профессионалом и знал, что торчать тут больше не нужно, не нужно слать письма, быть остроумным или искренним, простым или сложным, подбивать под нее клинья с помощью поэзии или вести себя, как пьяный извозчик. Я проиграл прежде, чем успел оглядеть поле битвы, проиграл по всему фронту.
И все-таки мне страшно не хотелось уходить с ее порога, на котором она стояла сейчас в своих черных лодочках.
— …просто… — это я продолжал начатую фразу, — я пойду, потому что вижу, что… что ничего не поделаешь.
— Ничего, — откликнулась она тихо.
— Я только хочу, чтобы вы поверили: то, что я писал в этих письмах, это правда, хотя и… ребячество, конечно. Вы должны знать, что если вам когда-нибудь… если я могу для вас что-нибудь…
Я почувствовал, что краснею. Подобного рода сентенции я в последний раз адресовал той девочке с косами, и было мне тогда шестнадцать, и я совершенно серьезно думал, что ее косички навсегда связали меня с любовью. И вот теперь я опять повторял те же слова, ничего более умного мне в голову не приходило.
— Я вам верю — и не сердитесь на меня.
Она чуть качнула дверью, но я все еще был не в силах прислушаться к голосу рассудка. Я продолжал блеять:
— И еще… вы должны знать, что… что я изменился… с тех пор… как познакомился с вами.
— Вы не изменились, — сказала она. — Вы просто влюбились. Обычно это делает человека лучше.
— А разве это не значит измениться?
— Я не настолько хорошо вас знаю, чтобы сказать, значит или не значит. Я же не в курсе того, как вы себя ведете в других местах.
— Как это — в других местах?
— Ну, в обычной жизни. На работе, с людьми… и вообще. Жизнь куда больше, чем… чем только это.