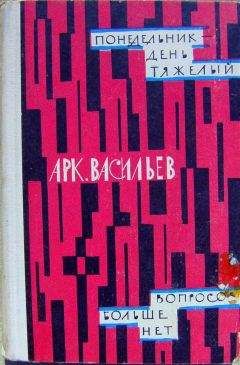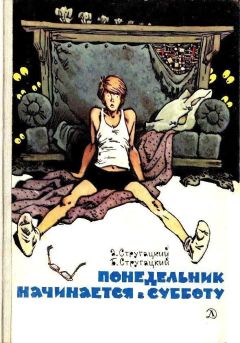— Знаете?
— Ага… Вы, когда к нашему столику подползли, извините, подошли, все говорили: «Ах, Константин, Константин, до чего же дошел, Константин. Из-за кого? Из-за Тоньки…»
— Из-за Тоньки?
— Ага…
— Это я спьяну.
— Плакали вы по-настоящему…
— Давайте бросим этот разговор.
— Мне он тоже неинтересен.
— Поговорим лучше о вас. Как вас зовут?
— А вы, Костя, еще не совсем протрезвели. Я же сказала — Надя.
— Ах, простите. Давайте лучше о вас, Надя. Кто вы такая: жена, вдова или разведенная?
Она хохочет:
— Ни то, и ни се, и ни третье. А вы всех так спрашиваете?
— Всех. И все отвечают.
Она посмотрела на меня очень внимательно и тихонечко сказала:
— Я думала, что вы протрезвеете и человеком станете, а вы…
Встала и пошла. Не могу понять, почему я за ней побежал.
— Надя! Наденька, подождите…
— Ну, что вам?
— Извините меня. Можно, я с вами пойду?
— Частная собственность на землю у нас давно отменена. Бульвар общий.
— Вы где учитесь?
— А почему вы решили, что я учусь?
— По разговору.
— Я работаю. На часовом заводе.
— Инженер?
— Работница. По вечерам, правда, учусь. Всё, будьте здоровы. Я здесь живу.
— Хороший дом.
— Я здесь недавно. До этого в общежитии жила.
— Вы что, одна живете?
— Одна. Я из детского дома…
— А где ваши родители?
— Не знаю… Про маму точно знаю — погибла в Ленинграде, а об отце ничего не известно…
— Это очень тяжело?
— Было тяжело… А сейчас что же. У меня друзей много.
— Разрешите быть одним из многих?
— Заслужите.
— Как?
— Не пейте больше. Не совсем, конечно. Немножко можно, с друзьями… Мы сегодня нашего Сеню провожали. Уезжает из Москвы… А много не надо. Вам так плохо было.
— Не буду.
— Слово даете?
— Даю. Можно вас еще увидеть, Надя?
— А почему нет? Позвоните. У нас телефон в квартире. Запишите…
Я торопливо записал.
— А у вас, Костя, нет телефона?
Я соврал. Почему я соврал, не знаю. Очевидно, сработал инстинкт самосохранения.
— К сожалению, нет.
— Это плохо… Плохо жить без телефона…
И засмеялась:
— Как будто я всю жизнь прожила с телефоном. Только позавчера поставили. Сосед мой полтора года ждал… В общем, позвоните. Вы, похоже, неплохой парень…
И ушла. И вдруг я почувствовал, что тоска меня не так сильно грызет. Она еще не уснула совсем, но притихла, задремала. И я впервые за последнее время не думал о Тине… О Тоньке, как сказала девчонка. А может, правда надо клин клином вышибать… Машинисточка, девочка из магазина… А эта с часового завода. Не все ли, впрочем, равно… Клин!
Какая сволочь! Как он мне сказал: «Уважаемый Иван Петрович, извините за откровенный разговор, но будет гораздо лучше, если вы поставите вопрос об уходе на пенсию…
Вам, несомненно, учитывая ватин заслуги, установят персональную, п вы смело сможете продолжать свою научную работу в домашних условиях…»
Где их, нынешних, учат такому обращению со старшими?
«Уважаемый Иван Петрович!..» Посмотрел бы я, как ты когда-то входил бы в мой кабинет! Встал бы на все четыре лапы, скотина!
Помню, у меня машина была с номером 30–71. А я терпеть не могу нечетные числа, И сейчас не терплю, а тогда особенно. Даже привычка такая: сяду в машину, поеду и у всех встречных машин обязательно цифры на номерах складываю. Получается четное — я доволен. А если нечетное это мне не нравилось. Почему, в чем дело, не знаю — не нравится, и все.
Номер своей машины я никогда не видел. Бывало, подойдешь, шофер дверцу распахнет или этот, как его, Максименко, был у меня такой ухарь-молодец, заведовал особым сектором. Жулик был отчаянный, но парень лихой, умел держать язык за зубами.
Дверцы распахнет, сядешь и катишь, номера своего не видно. А один раз я его увидел. Случилось это вскоре после войны — в 1948 году. Вызвали меня срочно в Москву. Минут через двадцать, как выехал я из своей областной столицы во всесоюзную, Максименко (я всегда его в таких случаях с собой брал) мне говорит:
— Иван Петрович, нас товарищ Буренкин догоняет!
Буренкин у нас в то время областным управлением Министерства внутренних дел заправлял, генерал-майор… Если формально мыслить — я вроде как самый главный в области, а если по существу… Я обернулся, а его «опель-адмирал», тогда у нас этой трофейной дряни хватало, вижу, действительно, нажимает нам на задние скаты.
Поравнялись. Буренкин ручкой меня поприветствовал, вплотную прижался к нам и кричит:
— Пересаживайтесь, Иван Петрович, веселее будет…
Я хотел насчет субординации высказаться: негоже, мол, мне к тебе влезать, лучше давай ты ко мне, — но на Максименко глянул и понял: препираться не надо, можно только навредить… Уж очень мой верный Максименко побелел.
— Давай, — кричу, — останавливай свой драндулет!..
Я своему шоферу Степану Егоровичу руку на плечо — такой уж у нас условный знак существовал — стоп, дескать. Он остановил, аж тормоза по-звериному завыли, и повернулся ко мне: лицо тоже бледное, в глазах не то жалость, не то сочувствие — я его баловал, иногда подкидывал кое-что…
Мы проскочили вперед метров на двадцать. Иду я назад к машине Буренкина, а ноги чугунные, спина взмокла.
Он, подлец, хотя бы подал свой тарантас, стоит на месте, как коршун, ждет возле машины.
Оглянулся я на свою и вижу номер. Мать ты моя родная — 30–71, нечетный. И так нечетный, и сложишь по разному — все нечетный!
И я окончательно уверился, что Буренкин не случайно меня переманивает.
Он, как все мы, грешные, любил рядом с водителем сидеть. А тут пересел на заднее место рядом со мной, коленка в коленку. И запах от него неприятный, видно, зубы нелеченые…
Он шоферу скомандовал — поехали, дескать. Тот даже не обернулся, погнал. Пока мы ехали, стояла передо мной его красная, здоровущая, побритая в скобочку шея.
Буренкин объясняет:
— Насилу догнал. Я позвонил, а мне справку: «В Москву!..»
Ничего я не соображал. Сидел и думал: куда он меня повезет? Неужели прямиком к главному подъезду?
Буренкин какую-то анекдотину плетет, сам хохочет, захлебывается, слюной брызжет, а я думаю: куда?
Пролетали мы через небольшой подмосковный городишко, я столовую знакомую заметил, сколько раз в ней «заправлялся». Здесь можно было: область чужая, никто меня не знает. Правда, один раз все-таки на знакомого налетел: «Привет, Иван Петрович! За плавающих и путешествующих!»
И так мне захотелось рюмашечку опрокинуть, холодным пивком закусить.
— Может, остановимся? Пропустить по баночке?
Буренкин усмехнулся:
— Надо ли?
Не сказал, подлец, как все люди: «Не хочу» или «Не стоит», — а по-особенному, с ехидцей: «Надо ли?»
Только камешки маленькие по крылу из-под низу дробью застучали.
Буренкин новую анекдотину. А я свое: куда? Потом он что-то насчет Садовникова проезжаться начал, а Садовников — наш предисполкома, мужик деловой, энергичный. Но Буренкин его недолюбливал, это мне было известно.
Он проезжается насчет Садовникова, а я о своем. Куда?..
И охватил меня страх. До Москвы даже при такой гонке часа два, не меньше, осталось. И я подумал, что если сейчас, сию минуту, не выясню: «Куда?» — то могу очень даже. свободно помереть и привезут к первому подъезду мой труп.
Машина летит, только столбики придорожные мелькают, деревеньки позади остаются, а я при жизни коченею и все думаю: «Как узнать? Спросить?» Поворачиваюсь к нему и естественно нормальным голосом справляюсь:
— Надолго ли в столицу?
Но это я полагал, что спрашиваю вполне естественно и нормально. А он-то понял и осведомился:
— Вы, случайно, не заболели?..
— Нет, здоров. А что?
— Губы у вас посинели… А в Москву я ненадолго. Одно дельце обтяпаю — и- вечером домой. Люблю ночную езду…
Ничего ведь, изувер, не сказал. Что бы спросить: «А вы когда?» Я бы успокоился. И я решил: надо действовать, иначе рехнусь.
— Останови, пожалуйста, твой тарантас!
— Что такое?
— Мутит… Изжога поднялась… Боюсь, вытошнит…
Он своему красношеему что-то буркнул. Тормоза промяукали, и мы встали… Я вывалился из его, будь он проклят, «адмирала» — и скорее в сторонку, словно по неотложной надобности… Подхожу к машине, губы платком вытираю, чтобы не заметил, как дрожат, а я дрожь унять никак не могу, и объясняю:
— Поезжай, Федор Гаврилович, один… Я тут свою таратайку подожду, немного оклемаюсь…
Он на меня посмотрел и все, мерзавец, понял. Понял все мое состояние и усмехнулся с презрением. Уговаривать не стал, пересел на переднее место, хлопнул дверцей и через окошко попрощался:
— До свидания, Иван Петрович…