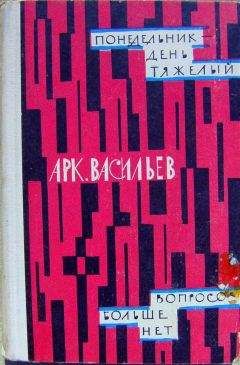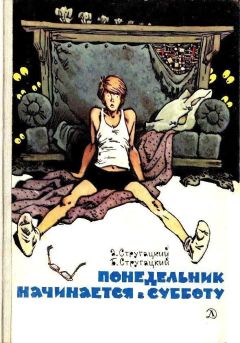— Ты сейчас, Коленька, пионер, потом будешь комсомольцем, а совсем вырастешь, станешь коммунистом, как твой папа.
Мама никогда не говорила: «Как я», а только так: «Как папа».
Помню, как она первый раз повела меня в Мавзолей. Я немножечко боялся, а она говорила:
— Что ты, глупенький… Мы же к Ленину идем. К Владимиру Ильичу… Когда войдем, ты тихо себя веди, ни о чем не спрашивай, а смотри и запоминай…
Теперь я понимаю, как трудно было маме меня вырастить… Она не любит рассказывать про эвакуацию, а я сам ничего не помню, только как во сне приснилось — большой пруд, березы с облетевшими листьями, пасмурный день и костер, в котором мама пекла картошку… Как вернулись в Москву, помню отлично, мне было уже шесть лет. Мама вошла в комнату, первым делом сорвала черную бумагу с Окна и распахнула створки:
— Дома мы, Коленька, дома!.. Как хорошо! И войны нет.
Потом она заплакала. Я очень удивился: мы домой приехали, а она плачет.
— Мамочка! Что с тобой?
— Ничего, Коленька, пройдет… Поплачу немного и перестану…
Тогда я не понял, мал был — она вспомнила папу.
Сколько маме было, когда овдовела? Двадцать два года… Когда война кончилась и папа не вернулся, ей было двадцать шесть. Она и сейчас красивая, а тогда еще лучше была. А замуж так и не вышла. Не захотела. Когда я ей в прошлом году сказал:
— Ты, наверное, из-за меня замуж не вышла, не хотела, чтобы у меня отчим был, — она ответила:
— И поэтому тоже… Такого второго человека, как был папа, я не встретила. Он, Коля, был особенный…
И мама, как всегда, начала рассказывать про папу, какой он смелый, добрый, сильный и веселый.
— Подружки сначала надо мной, Коленька, подшучивали: «Какой у тебя муж ревнивый, до фабрики провожает, с фабрики встречает». А потом позавидовали: «Ну и муж у тебя, Катерина, каждый день ласковый». А папа и вправду любил меня у проходной встретить… Бывало, выйду, а он уже тут…
У нас только одна папина фотография, очень маленькая, и я не могу даже представить, какой он был…
А случай с сахаром! До сих пор, как вспомню, уши горят. Случилось это в последний год карточной системы. Я уже в школу ходил. Начал я каждый день из кулечка чайную ложку сахара отсыпать в другой, в свой. Что особенного? Ложечка маленькая, совсем незаметно. Нам сахара до новых карточек не хватало. Я и решил, когда сахар кончится, я маме мой кулечек подарю. Вот она обрадуется!..
И подарил. А мама сразу: «Где взял?» Уж я вертелся, вертелся: «Не скажу, и все!» Мама свое: «Хорошие поступки ты от меня не будешь скрывать. Значит, ты поступил плохо».
Тогда я ей все рассказал. Она сначала смеялась, а потом всерьез сказала: «Выходит, ты хотел без всякого труда мне приятное сделать?»
Долго после этого у нас было нечто вроде пароля. Начну я что-нибудь делать не так, как надо, а мама скажет: «Это, Коля, не сахарный песок».
Когда я был школьником, мама каждое воскресенье водила меня «на экскурсии». Где только мы с ней не были! Во всех музеях по нескольку раз перебывали, в Останкинский дворец раза три ездили, в Третьяковку. Иногда просто гуляли по набережным, и как-то так случалось, что в конце прогулки мы всегда приходили на Красную площадь.
Мама брала меня за руку, и мне было очень хорошо от ее теплой и нежной ладони.
Наверное, поэтому я так люблю Красную площадь, когда я бываю там, мне всегда хорошо и тепло.
Особенно я люблю Красную площадь по вечерам. Затихает ГУМ, реже пробегают машины. Кремлевские стены становятся сиреневыми, а брусчатка синеет и кажется более мягкой — шаги не так слышны, как днем. Даже воздух вечером на Красной площади совсем особенный.
Мне везло. Мы с мамой часто наблюдали смену караула у Мавзолея. Теперь-то я понимаю причину этого «везения»: мама знала, когда происходит смена караула, и всегда приводила меня вовремя.
Потом мы спускались в Александровский садик.
И сейчас, когда я один прохожу через Красную площадь, мне кажется, что рядом идет мама и держит меня за руку, и все мелкое, что иногда представляется очень важным и значительным, здесь тускнеет, и жизнь предстает в ином свете, хочется стать чище, откровеннее, любить людей, быть лучше.
…После бюро райкома и разговора с Кожуховой я решил пойти в городской комитет партии. Я рассуждал так: я хочу быть в партии, мне в этом отказали, отказали по недоразумению, потому что и общее собрание и члены райкома поверили Телятникову, а не мне.
Какой же я коммунист, если не докажу, что все это ошибка?
После смены, ничего не сказав ни Наде, ни маме, я отправился узнать в горкоме, когда приемные часы, кто меня может принять.
Вход на Красную площадь с Манежной площади был закрыт — шла какая-то киносъемка, и мне пришлось идти в обход, через арку Третьяковского проезда.
Я днем давно не бывал в этом районе, как-то все не приходилось, и меня удивило оживление на улице Двадцать пятого Октября. Я с трудом протолкался через толпу, заполнившую не только тротуары, но и проезжую часть… А потом я попал в Большой Черкасский переулок — и снова гудящая толпа и вереница машин, которой, казалось, нет конца…
Я догадался: в многочисленных учреждениях, расположенных в Большом Черкасском переулке, закончился рабочий день…
У подъезда Центросоюза я был вынужден остановиться — так много людей шло навстречу.
До службы в армии у нас с Лешей Телегиным была интересная игра. Мы назвали ее «физиономический кроссворд». Гуляя вечером по улице Герцена или по Арбату, мы «делили» прохожих. Если бы работники уголовного розыска услышали наши разговоры, они с полным основанием могли принять нас за отчаянных бандитов.
— Бери этого толстяка!
— А ты займись дамочкой.
Каждый из нас должен был за несколько секунд определить профессию человека, возраст, семейное положение и еще массу «примет».
А потом мы «докладывали» друг другу свои наблюдения, именно докладывали — по-военному четко, быстро, без лишних слов:
— Сорок три, бухгалтер, женат, бездетный, любит преферанс, водочку, скуповат…
Или:
— Двадцать семь, жена, один ребенок, верна мужу, купила себе на платье…
Иногда мы проверяли себя. Мы останавливали «жертву» и, многократно извинившись, объясняли, что мы студенты киноинститута и нам, дескать, все это необходимо для развития наблюдательности.
Интересно было смотреть, как у людей с лица уходила настороженность, появлялась улыбка и они охотно отвечали на вопросы. Угадывали мы в общем неплохо — половину. Только двое не захотели разговаривать с нами, а одна с виду добродушная женщина пригрозила крикнуть милиционера. А прохожий, которого я принял за «солидного профессора, пятидесяти лет, семейного, молчаливого», охотно включился в игру:
— Угадайте!
Мы назвали десяток профессий: актер, писатель, хирург, — а он хохотал и повторял:
— Не то, молодые люди, совсем не то…
Мы так и не угадали. Он сам сказал:
— Приходите через полчасика во Второй гастроном — и прямо к рыбной секции. Кстати, получили селедочку с анчоусным соусом… Пальчики оближете…
Мы зашли в гастроном. Наш знакомый приветливо помахал нам из-за прилавка:
— Селедочки не желаете?..
В Большом Черкасском переулке я вспомнил о пашей игре и пожалел, что со мной нет Леши Телегина. Здесь нам было бы легче решать наш «физиокроссворд», — во всяком случае, на один вопрос мы могли отвечать совершенно безошибочно: «служащий».
Они шли, шли толпой, а я стоял и думал: «Почему их так много?»
А двери хлопали, скрипели. Из них все выходили и выходили люди.
Одни, особенно женщины, торопились, у многих из них был озабоченный вид. Другие, не спешили, перекидывались фразами о своих делах. До меня долетали обрывки разговоров:
— Самойлов на этом деле собаку съел…
— Так он тебе и подпишет!.. Ему ничем не докажешь!
— У них прирост шесть, а он уверяет — семь…
— Вместо Григорьева сейчас Беседин. Этот попроще…
В довершение всего я столкнулся с человеком, очень похожим на Телятникова, — такой же большой нос, черные глаза под широкими бровями и такие же толстые масленые губы.
Мы долго не могли с ним разойтись: он направо — и я направо, он налево — и я налево. Потом он с кавказским акцентом сказал:
— Молодой человек, пожалуйста…
Я не мальчик, отлично понимаю необходимость государственного аппарата, и все-таки у меня крутились всякие мысли о том, не слишком ли много у нас служащих?
Как назло, мне попалось кафе-закусочная. И я с кем-то «разделил на троих»…
Дома я ничего не сказал о своих переживаниях, мне вообще не хотелось ни о чем говорить…
А вечером мы с Надей пошли погулять и, как бывало с мамой, в конце прогулки очутились на Красной площади.
На ней было тихо, торжественно-спокойно. Мы медленно прошли мимо Мавзолея и присели отдохнуть на трибуне.