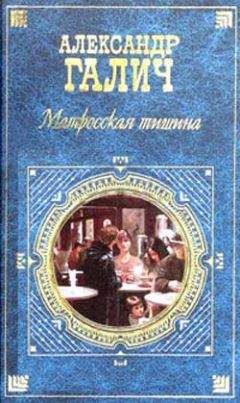сторонам и видит — стоит Казбек… Могучая гора со снеговыми вершинами, с глубокими ущельями… Стоит Казбек, и где-то внизу проплывают облака, а на вершинах — снег, тишина, вечный покой… А птица летит и летит… Она долго летит и видит — Эльбрус! Тоже могучая гора, и тоже облака проплывают где-то внизу, а наверху — снег, лед, тишина… А птица летит и летит… И вот она пролетает мимо Тбилиси, мимо «Белого духана», и заглядывает в окно, и видит, что сидят вместе, за одним столиком, два человека, назовем их Коля Дондуа и Беня Шапиро, а они сидят, и едят шашлык, и пьют кахетинское… И что же думает птица?! А вот что она думает — гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится! Так думает птица, и она правильно думает! Давайте же выпьем за нашего нового знакомого, который когда-нибудь, я в этом уверен, станет нашим старым знакомым, — за Семена Яновича Таратуту!
И все, кроме месье Раевского — он только похлопал в ладоши, — поднялись со своих мест и выпили за здоровье Таратуты, и даже мальчики — Валерик и Толик — покивали ему с другого конца стола и сделали руками жест, означавший, что — как уже заметил Валя-часовщик — ошибки в жизни случаются с каждым и что они просят не держать на них зла. А коньяк был и вправду замечательный, редчайшего букета армянский коньяк, и Таратута, выпив, почувствовал, как теплеет у него в груди и как странное чувство успокоительной усталости сменяется успокоительной беззаботностью и легкостью.
А Валя-часовщик налил ему еще, и Таратута, неожиданно для самого себя, спросил:
— Скажите мне, Валя… Это ничего, что я вас так называю?
— А как же вам еще меня называть?! — удивился Валя-часовщик.
— Хорошо. Скажите мне, Валя, объясните мне — а почему, собственно, вы так со мною возитесь? Вы же могли просто уехать…
— Семен Янович, что вы говорите?! — с искренней обидой в голосе перебил его Валя-часовщик и даже всплеснул руками. — Мы же не какие-нибудь бандиты, чтобы оставить человека лежать на улице в бесчувственном состоянии. Тем более что, по сводке погоды, к вечеру ожидается дождь! Нет, мы взяли вас в машину, чтобы отвезти домой. Но когда мы посмотрели ваши документы и увидели, что, во-первых, вы шахматист, а я вам уже сказал, какое уважение я имею к этой игре… и что, во-вторых, вы живете в гостинице, так мы решили привезти вас лучше сюда. Ну, а уже здесь Вано — тот, который сейчас говорил тост, — он узнал вас… Он видел, как вас сегодня забирали в милицию за то, что вы требовали освободить Михаила Моисеевича Лапидуса…
— И вы решили, что я из ваших?
Валя-часовщик искоса, слегка прищурясь, посмотрел на Таратуту, медленно покачал головой, и лицо его на какую-то долю секунды изменилось до неузнаваемости — оно вдруг стало умным и немножко печальным.
— Нет, Семен Янович, — негромко сказал Валя-часовщик. — вы не из наших! И не дай вам Бог стать когда-нибудь нашим! И поверьте, что я это говорю вполне серьезно.
— А почему?
— А потому, Семен Янович, что ни один человек из тех, что сидят сейчас за этим столом, не знает, что будет с ним завтра, и не может спать спокойно. А здесь — и вы опять-таки можете мне поверить — сидят люди, у которых есть деньги… Они, конечно, не Онасисы или Ханты, но они могли бы многое себе позволить. И не имеют этой возможности. Поганая «Волга», на которой я езжу, так она тоже официально мне не принадлежит. Один уважаемый доктор наук дал мне будто бы доверенность, что я имею право пользоваться его машиной. Но ОБХСС к этому доктору наук не ходит, оно ходит ко мне. А уважаемый доктор наук содрал с меня за эту старую рухлядь вдвое больше, чем стоит новая «Волга». Но я не могу иметь свою машину, потому что я сижу в подворотне на Карла Маркса, бывшей Екатерининской, и чиню часы… И все, Семен Янович, в этом роде! Круговорот азота в природе! Да, кстати, а каким образом вы знакомы с Лапидусом?
— А я с ним не знаком! — сказал Таратута, снова и намного внимательнее, чем в первый раз, разглядывая сидящих за столом. — Мне просто рассказали о нем, и я… — Не договорив, он задержался взглядом на курносой девчонке в форме стюардессы, спросил: — А вон та стюардесса, она из ваших?
Валя-часовщик улыбнулся:
— Катюша? Из наших. У нас, Семен Янович, налажен воздушный мост Одесса — Тбилиси. Вы же понимаете, далеко не все можно посылать по почте… Катюша — это наш лучший связной. — Он наклонился к Таратуте, тихо спросил: — Интересуетесь, Семен Янович? Вы скажите, это можно устроить.
Таратута смущенно поежился, снял очки, подышал на стекла, протер их платком, надел:
— Но она же девчонка, Валя! Ей же лет семнадцать, не больше.
— Восемнадцать, для точности! — заметил Валя-часовщик. — Но это не имеет значения! В женщине, Семен Янович, значение имеет не возраст, а вес. Если больше чем тридцать пять килограммов — то все в порядке. Меньше чем тридцать пять — можно получить неприятности… — И, окончательно развеселившись, Валя-часовщик громко окликнул: — Катенька, деточка! Скажи дяде Вале, какой у тебя будет живой вес?
— Сорок четыре, дядя Валя! А что?
Валя-часовщик снова засмеялся и игриво толкнул Таратуту плечом:
— Вот видите, Семен Янович! Но только, между прочим, я имею к вам лучшее предложение. Я даже удивляюсь на самого себя, как я об этом сразу не подумал. У меня есть две хорошие знакомые — Лида и Тоня. Вы смотрели, Семен Янович, кино «Королева Шантеклера»? Так вот, эта самая королева — она может, как говорится, бегать Лидочке и Тоне за пивом… У вас в гостинице, Семен Янович, я надеюсь, отдельный номер?
— Отдельный.
— Ну вот! — удовлетворенно кивнул Валя-часовщик. — Когда наш небольшой товарищеский ужин закончится, вы идите домой и ждите… Я отвезу месье Раевского, потом я заеду за Лидочкой и Тонечкой. А потом мы приедем к вам.
— Друзья мои! — Это опять с бокалом в руках поднялся пожилой грузин-тамада и, когда все сидевшие за столом замолкли, проговорил прочувствованно, торжественно и негромко: — Дорогие мои друзья! Я хотел бы, я очень хотел бы, чтобы сейчас, в эту минуту, в эту долю мгновения, остановились бы все часы на свете, как они почему-то останавливаются у нашего друга Вали-часовщика…
Он усмехнулся, а Валя-часовщик, взглянув на свои часы и удостоверившись, что они и вправду снова остановились, погрозил