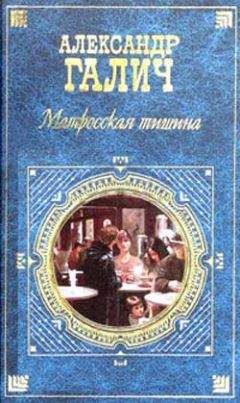то, как говорится, сам бог велел!
Он открыл тяжелую дверцу, достал из несгораемого шкафа бутылку «Столичной», тарелку с солеными огурцами и кислой капустой, перенес все это добро на стол и сказал:
— И не вздумай отказываться. Без посошка на дорожку я тебя все едино не отпущу!
Он сел, выдвинул рывком ящик письменного стола, достал две пластмассовые стопочки — голубую и красную, себе налил в голубую, а Таратуте, как гостю, придвинул красную.
— Ну, будь!
И только теперь Таратута заметил, что Леонтий Кузьмич не то успел уже изрядно поддать с утра, не то еще не протрезвел с вечера.
— Давай, Семен!
Выпили. Покряхтели. Деликатно закусили огурчиком и кислой капустой. Верченко поискал глазами, обо что бы ему вытереть мокрые пальцы, не нашел ничего подходящего и вытер их об усы.
— Хитер! — сказал он и одобрительно подморгнул Таратуте. — Хорошо, мне из ОВИРа позвонили, а то я бы и не знал.
— Я и сам не знал, — сказал Таратута.
— Хитер, хитер! — продолжал тягуче Леонтий Кузьмич и вдруг, наклонившись, сказал свистящим заговорщицким шепотом: — А я ведь тоже, между прочим, кое-где был, веришь — нет?! В Кон-стан-ти-но-по-ле! — произнес он по слогам и засмеялся. — Нас всей бригадой в каботажное плавание брали. На «Михаиле Лермонтове». Ну, приходим в Константинополь, а нам — увольнительную на берег, на шесть часов… Веришь — нет?! А в Константинополе этом знаешь чего пьют?! Они, черти маринованные, денатурат пьют. И не скрывают. Так прямо на бутылке и нарисовано — череп и две кости! Ну, мы, как на берег сошли, взяли по бутылке на личность, выпили тут же, на пирсе, и закосели… Хотим добавить, а деньжат не хватает. Ну, мы обиделись и на корабль вернулись, часа не прошло. Нас помполит хвалил потом за это и другим в пример ставил. А что, Семен, в Израиле пьют?
— Понятия не имею, — сказал Таратута. — Я далеко не уверен, что там вообще пьют.
— Ну как это может быть? — удивился Леонтий Кузьмич и даже слегка пригорюнился. — Ну зачем ты, Семен, такие глупости говоришь?!
— Жарко там очень. Я вот читал, что…
— Ты за прошлое читал! — перебил Леонтий Кузьмич и снова повеселел. — Ну, раньше они возможно что и не пили. А уж теперь, когда наши туда понаехали… И это, знаешь, не важно — евреи, не евреи… Важно, что советские! А жара, я тебе скажу, так это хорошо даже. Жара — она только крепости добавляет! Ты мне пиши оттуда, Семен. Ну, что пьют и как пьют — это, может быть, цензура не пропустит, а ты напиши: извини, мол, Леонтий, ошибался, И я пойму! Напишешь?
— Напишу, — пообещал Таратута.
— Леонтий Кузьмич! — В дверях, ведущих из кабинета прямо в буфет, появилась растрепанная пожилая буфетчица (похожая сразу на всех трех ведьм из пьесы «Макбет» английского драматурга Шекспира, как сказал бы месье Раевский) и прокричала с рыданьями в голосе: — Леонтий Кузьмич, сил моих больше нет, тут вас требовают!
— А что случилось?
— А ничего не случилось! Муха тут одному, видите ли, в кофий попала…
Леонтий Кузьмич нахмурился:
— Муха? Ну и что? Ну а я при чем?
— А он велит, чтоб жалобную книгу принесть. А я ему говорю, что книга у вас.
Буфетчица всхлипнула.
— Ну, тихо, тихо, Тамара! — сказал Верченко, тяжело поднялся, провел по лицу растопыренными пальцами, словно сдирая с себя хмель. — Извини, Семен! Попрощаться — и то не дадут. Аристократы, мать их растак! Он мухою, понимаешь, брезгует, ему за двенадцать копеек бабочек подавай!
А дождик, ливший всю ночь и все утро, к полудню, как ни странно, прошел. И в разрывах облаков появилась подсвеченная золотом голубизна, и Одесса в одно мгновение посветлела, похорошела.
Таратута медленно шел, заложив по привычке руки за спину, насвистывал, глазел по сторонам. Ему было почему-то грустно, хотя он и не хотел себе в этом признаться. Вернее, запретил.
За все годы, что прожил он в Одессе, он так и не сумел полюбить этот город.
Разумеется, он проникался по временам прелестью его прозрачных вечеров, морскими томительными закатами и шуршаньем каштанов; его восхищала забавная одесская речь — певуче-ленивая, с лукавыми, всегда вопросительными интонациями, речь настолько своеобразная и соблазнительная, что он и сам охотно ей подражал; его восхищала непоколебимая уверенность одесситов в том, что все у них самое лучшее — лучший Оперный театр, лучшая глазная больница, лучший Приморский бульвар, лучшая главная улица и уж, конечно, лучшие женщины, воры и музыканты.
И он готов был даже с ними согласиться, но все-таки полюбить Одессу не мог. Ему было неуютно в этом городе, скучно, одиноко.
Впрочем, ему, наверное, всегда будет одиноко, всюду, где нет Адели. Но об этом он и вовсе запретил себе думать. Раз и навсегда.
Он внезапно остановился и постарался вспомнить, хорошо ли он уложил единственное свое сокровище — «Декабриста Лунина». Кажется, хорошо. В картонную коробочку, набитую ватой, а сама миниатюра завернута в папиросную бумагу в несколько слоев, можно не волноваться.
На Приморском бульваре, радуясь неожиданно просветлевшему дню, сидели на скамейках чинные молчаливые старики. Это были не бездельники-пенсионеры — часы пенсионеров и домино наступали позже, — это были деловые люди, знаменитые продавцы «слова».
Необычайный этот промысел, единственный и неповторимый, родился в Одессе в первые послевоенные годы и дожил до наших дней, то затухая, то разгораясь снова до жара и яркости адского пламени.
«Слова» делились на множество групп, видов и подвидов: «слова» женские, мужские и детские, «слова» продовольственные, «слова» особые.
В этом последнем подвиде больше всего ценились такие «слова», как «телевизоры», «холодильник», «бритвенные лезвия», «ковры» и «пылесос».
Сам процесс покупки-продажи «слова» происходил так:
— У кого есть мужское «слово»? — спрашивал покупатель.
— У меня есть мужское «слово»! — отвечал продавец.
— На когда?
— На сегодня.
— Почем?
Продавец пожимал плечами:
— Смотря какое «слово» вам нужно.
Покупатель, оглянувшись, чтоб убедиться, что никто не подслушивает, ронял сквозь зубы негромко:
— Обувь. Есть?
— Есть. Только «слово» «обувь» стоит сегодня полтора рубля.
— Почему так дорого?
— Потому что очень хорошее «слово». Зимнее. Импортное. Уверяю вас, вы будете гулять с вашей дамочкой или бежать за трамваем — и вы будете вспоминать меня, такое я вам продам «слово»!
— Ну, ладно.
Покупатель платил полтора рубля и получал в обмен бумажку, на которой бисерным почерком было написано: «В три часа дня в специализированном магазине «Обувь», у вокзала, будут в продаже чешские зимние ботинки от сорокового до сорок четвертого размера. Заведующую мужской секцией зовут, на всякий случай, Нина Петровна».
Откуда продавцы «слова» получали