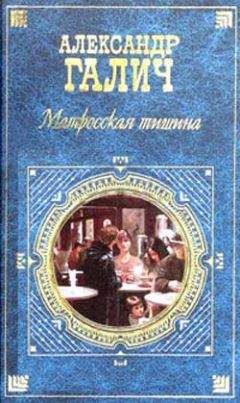пьешь коньяк.
— Пью, — сказал Таратута и с внезапной догадкой поглядел на Аллу. — А вы чаем его разбавляете?
Алла засмеялась:
— Мы подобными глупостями не занимаемся. — Она оглянулась на буфетчицу, тряхнула челкой, негромко и серьезно сказала: — Бутылка этого коньяка в магазине стоит восемь рублей. А у нас почти шестнадцать, вдвое. И это не мы набавляем, ты не думай. Это официальная государственная наценка. С тебя в любом ресторане возьмут столько же. Получаем мы этот коньяк на особой базе Министерства путей сообщения. По счету получаем, по накладной — такое-то количество бутылок. Отправляемся в рейс — получаем, возвращаемся — за пустые, которые выпили, рассчитываемся, а которые не выпили, обратно сдаем. Ты сечешь?
— Секу, — пробормотал Таратута, — секу, но не понимаю — на чем вы тут зарабатываете?
Алла усмехнулась:
— А тут даже чокнутый — и тот заработает! — Она еще больше понизила голос: — На каждую бутылку, которую мы получаем с базы, ставится печать, штамп: Министерство путей сообщения, база номер такая-то, вагон-ресторан номер такой-то. Все в ажуре! Но только у буфетчицы нашей, у Марьи Григорьевны, есть точно такой же штамп. Сечешь? Перед рейсом мы в складчину покупаем в магазине по нормальной цене тридцать-сорок бутылок, ставим на них штамп и пускаем в продажу. Которые с базы бутылки — те в ящике, под буфетом или на кухне. Ну, конечно, несколько штук мы — для отчетности — продаем… Но в основном торгуем нашими. В сезон за один сдвоенный рейс мы, бывает, столько продадим, что пустыми назад едем: ничегошеньки не остается — ни коньяка, ни вина, ни водки…
— Хитро, — пробормотал Таратута.
— А ты говоришь — чаевые! — с воодушевлением сказала Алла. — И это, миленький, один всего лишь пример, а их… Такие есть номера — закачаешься. Объяснять только долго!
Гремя сапогами, вошли в ресторан двое военных, два майора. У обоих были совершенно остекленевшие, бутылочного цвета глаза и нарочито четкие движения.
За столик они не сели, а прошагали прямо к буфетной стойке, заказали по чайному стакану водки и по бутерброду с вареной колбасой; без удовольствия, словно выполняя ответственное задание, выпили, заели колбасой, расплатились и направились к выходу.
Уже в дверях один из них — тот, что был помоложе, — обернулся, поднял руку с оттопыренным указательным пальцем и громко сказал:
— Прошу учесть, что римский Ко-зи-лей был разрушен! Ясно?!
— Ясно, — ответила Алла и пообещала: — Учтем!
Майоры ушли.
— Пьянь несчастная! — сказала Алла.
Таратута допил коньяк и со вздохом сожаления поставил пустую рюмку на стол, поставил очень аккуратно, но она почему-то упала и едва не разбилась.
Таратута засмеялся, облизнул языком пересохшие губы. У него кружилась голова, перед глазами плыли какие-то веселые радужные пятна, и в одном из этих пятен то появлялось, то исчезало Аллино лицо. Иногда целиком, иногда по частям — нос, ухо, глаза, челка.
«Я на ней женюсь, — решил Таратута. — Женюсь и возьму с собою в Израиль. Мы будем жить счастливо и умрем в один день. Сейчас я ей все это скажу, но сначала нужно еще выпить!»
— Нужно еще выпить! — сказал он вслух.
— А тебе не хватит? — спросила Алла.
— Ха-ха! — сказал Таратута.
Алла поднялась, забрала пустую рюмку и ушла.
Таратуте захотелось петь. Но сколько он ни старался, он не мог припомнить ни одной подходящей к случаю песни. Он покрутил головой и с испугом обнаружил, что куда-то пропала компания очень некрасивых мужчин. Только что сидели, пили пиво — и вдруг пропали.
— Где они? — спросил Таратута, хватая за руку проходившую мимо кривую официантку Лизку.
Но Лизка, вместо того чтобы ответить по-человечески, вырвала руту и крикнула визгливо и непонятно:
— Какой с него калым?! Он уже и так левым винтом пошел!
Таратута обиделся, и голова у него перестала кружиться. Алла вернулась, поставила на стол графинчик с коньяком и рюмку, озабоченно спросила:
— Ты как?
— Превосходно! — сказал Таратута. — А что за калым?
— Выкуп, — объяснила Алла.
— Почему? — спросил Таратута.
— Ну, это если ты хочешь, — не сразу ответила Алла. Она покосилась на Таратуту, закурила, выпустила колечком дым, повторила: — Если ты хочешь… Надо заказать шампанское и какой-нибудь закуски. Для всех — для буфетчицы, повара, Лизки… Посидим, погуляем, и тогда они отпустят меня к тебе. Но это, конечно, необязательно! — добавила она, вдруг как-то заторопившись и глотая слова. — Это они так предлагают, а ты уж сам… Это, как говорится, тебе решать. И ты не думай, что я…
Таратута тупо поморгал глазами и спросил:
— А шампанское дорогое?
Алла усмехнулась:
— Ну, вот об этом уж ты как раз не волнуйся. Твой счет оплачен. Заранее и даже с верхом. Мне Валерий Исаевич перед отходом пятьдесят рублей дал. Сказал, если ты загуляешь, так чтобы все было тип-топ.
— Валерий Исаевич?! Какой Валерий Исаевич?
— Что значит — какой? — развела руками Алла. — Ну, он же провожал тебя, я из окна видела. Ну, Валя-часовщик!
Они повесили на дверях, снаружи, с двух сторон таблички с надписью «Ресторан закрыт». И постелили свежую накрахмаленную скатерть. И погасили верхний свет, оставив гореть только уютную настольную лампу. Алла сидела рядом с Таратутой, напротив буфетчица и повар Игнатий Игнатьевич — очень худой человек неопределенного возраста, беззубый, но в таких же, как у Таратуты, фасонистых роговых очках.
А кривая Лизка, приплясывая, принесла ведерко, из которого торчали серебряные головки бутылок шампанского, игриво подмигнула Таратуте здоровым глазом и снова умчалась на кухню — за закуской.
Повар Игнатий Игнатьевич очень длинными белыми пальцами вытащил из ведерка бутылку шампанского и, сдирая с горлышка серебряную обертку, вежливо спросил у Таратуты:
— В Москву едете?
— В Москву, — сказал Таратута и икнул.
— Ничего, бывает! — благодушно заметила буфетчица, и было не очень понятно, к чему относятся ее слова — к тому ли, что Таратута едет в Москву, или к тому, что он икает.
— Ты смотри только не усни! — шепнула Алла.
Она прижималась к Таратуте плечом, и от нее пахло луком и польскими духами «Быть может».
Повар Игнатий Игнатьевич ловко, не пролив ни единой капли, открыл шампанское и первому как хозяину стола, налил бокал Таратуте.
Прибежала Лизка с закуской — селедкой на тарелочках и винегретом в суповой кастрюле, — захлопала в ладоши, закричала:
— За молодых, за молодых!
А поезд сошел с рельсов и шпарил теперь прямо по полю, по мокрой ночной траве, через речку — по узкому деревянному мостику, прорезал наискосок березовую рощу и закружился на одном месте.
— Не засыпай! — сказала Алла.
— Я не за-сы-паю! — сказал, засыпая, Таратута.
Он проснулся минут через