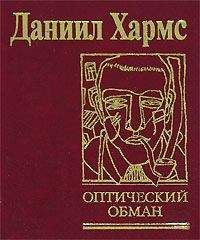или просто группу мужчин, он всегда под разными предлогами поворачивал назад или тянул в переулки, будто бы желая показать мне какое-то чудо архитектуры. Чтобы вселить в него мужество, я рассказала ему историю про одну танцовщицу, которая белой ночью шла по Неве с С. М. Алянским. Они читали друг другу Блока, Мандельштама, и все было неописуемо романтично и возвышенно. Вдруг Алянский остановил ее и, показав на три неустойчивых силуэта, предложил пойти назад.
— Зачем? — спросила Натали и продолжала, завывая стихи, идти вперед.
Когда они поравнялись с пьяницами, те предложили свои услуги. «Тебе, отец, поди с красоткой не справиться, мы тебе поможем…». Алянский бормотал Натали: «Я вам говорил, что не надо…»
Натали вырвала руку у Алянского и наотмашь двинула одного из них с такой силой, что он сел у парапета без движения, потом она размахнулась и сбила с ног второго: третий, менее пьяный, спасся бегством. Она спокойно взяла опять под руку своего спутника и совершенно неизменившимся голосом прочла следующую строчку и пошла дальше, точно она смахнула муху. Алянский потом мне сознался, что он был очень сильно в нее влюблен, но после этой прогулки — как рукой сняло.
Рассказ мой очень понравился Хармсу, но он придумал другой конец.
— Зачем она не тюкнула третьего? — сказал он. — Надо было ей догнать его, оглушить кулаком и бросить в Неву, потом вернуться к Алянскому и с его помощью перемахнуть и тех двух, а потом уж говорите — «и совершенно неизменившимся голосом прочла следующую строчку».
Иногда у него бывали припадки храбрости, когда было не очень темно на улице и не очень пустынно. Он говорил мне:
— Представьте себе, я никогда не дрался, даже в детстве, но ради вас я сегодня хотел бы кому-нибудь переломать ребра.
И он назвал самого маленького моего знакомого. В открытом бою я на него не рассчитывала, но ослабить противника постоянными нападениями он умел и был незаменим и очень изобретателен.
Когда Саше Введенскому не на что было выпить, он держал необыкновенные пари. Например, Хармс должен был дойти от нашего дома до Литейного проспекта, приодевшись в канотье без дна, так что волосы торчали поверх полей, в светлом пиджаке без рубашки, на теле был виден большой крест, военные галифе моего брата и на голых ногах ночные туфли. В руке сачок для ловли бабочек. Пари держали на бутылку шампанского: если Хармс дойдет до перекрестка и никто не обратит на него внимания, то выиграл он, и — наоборот.
Даниил Иванович дал себя одеть и шел по тротуару очень спокойно, без улыбки, с достоинством. Мы бежали по другой стороне улицы и, умирая от глупого смеха, смотрели — что прохожие? Никто не обратил на него внимания, только одна старушка сказала: «Вот дурак-то». И всё.
Введенский побежал за бутылкой, а Даниил Иванович степенно вернулся к нам, и мы все вместе пообедали.
Когда мы собирались по вечерам, мы любили играть в «разрезы». Всем раздавались бумажки и карандаши, назывался какой-то всем знакомый человек.
Надо было мысленно сделать разрез по его талии и написать на бумаге, чем он набит. Например, профессор Кушнарев: все писали — сыр. Это было очевидно. Потом называли очень скучную тетю — у всех почти было слово: пшено, у двух-трех — крупа, песок. Она была ужасно однообразна.
«Резали» П. Н. Филонова — у большинства: горящие угли, тлеющее полено, внутренность дерева, сожженного молнией. Были набитые булыжниками, дымом, хлородонтом, перьями. Была одна «трудная тетя», про которую даже написали, что не хотят ее резать, а более находчивые определили ее: резина, сырое тесто и скрученное мокрое белье, которое трудно режется.
Про Соллертинского единодушно все написали соты, начиненные цифрами, знаками, выдержками, буквами, или соты, начиненные фаршем из книг на 17 языках. Введенский — яблоками, съеденными червями. Хармс — адской серой и т. д.
Другая игра — только на концертах, когда первый раз появлялся дирижер, которого мы не знали в лицо и не видели никогда на фото. Надо было очень незаметно на небольшом листке бумаги нарисовать, как себе его представляешь. Очень быстро, пока он не появился. Пока он ждал полной тишины, мы обменивались рисунками и давились от смеха. Соседи на нас шикали. Хармс смотрел на меня с удивлением, что меня еще больше смешило.
На одном из концертов он передал по залу более ста записочек следующего содержания: «Д. И. Хармс меняет свою фамилию на Чармс». Мне он объяснил, что по-английски Хармс значит — несчастье, а Чармс — очарование и что от одной буквы зависит многое.
Еще была одна любимая игра под названием «черты лица». Мы оба рисовали на листках нос, рот, ухо, глаза вперемешку, потом менялись рисунками, и надо было сказать, чей это портрет. Прически не было, что было еще труднее.
Часто он мне давал тему, и я при нем быстро рисовала, всегда что-то смешное прибавляя от себя, но он неизменно делал вид, что ничего не заметил. Самый удачный и единственный сохранившийся рисунок назывался сперва «Охота», а потом «Хармс уходит с охоты».
Он мне начал рассказывать, как его пригласили друзья и что было в лесу.
— Подождите минуту, — я хочу все это изобразить.
— Ничего не получится, — женщины не умеют рисовать ружья.
— Да что вы, я сейчас вам докажу, что я отлично их рисую. Я даже знаю, что солдатские все одинаковые, и это неинтересно, а охотничьи — разных систем. Ну, рассказывайте.
И я нарисовала карандашом, ни разу не стирая, точной, филоновской линией охотников, зверей, деревья, пни и много ружей.
— Да, а кого же вы убили?
— Не помню. — поморщился Хармс, — одну беременную лань, одну птичку и, кажется, двух людей.
Стараясь не смеяться, я спросила: «А как вы были одеты?» — «Как всегда, но чтобы звери не приняли меня за охотника, я попросил у своей тетки длинную юбку».
— Ну вот, — сказала я, — все готово! Обратите внимание на ружья, одно даже с шомполом, на хитрых зверей, и как я вам польстила, пощадив вашу «охотничью» собаку.
Даниил Иванович пыхтел трубкой и был явно обижен, что я его обыграла.
— Вот видите, это карандашный рисунок, а какую вы мне задали работу. Теперь мне нужно несколько дней все это еще прорабатывать точкой, акварелью, чтобы все было по «принципу сделанности».
Хармс сам очень любил рисовать, но мне свои рисунки никогда не показывал, а также все, что он писал для взрослых. Он запретил это всем своим друзьям, а с меня взял клятву, что я не буду пытаться