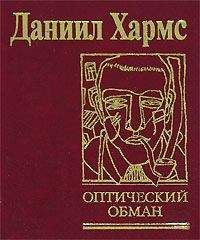кровать!
Даня делал мне знаки, прикладывал палец к губам: тс-с!
Через некоторое время снова:
— Опять! Я же вам сказала, мамаша, чтобы вы кричали, когда вам надо пикать.
Мы помирали от смеха, сгибаясь пополам. А Даня мне шопотом:
— Молчи! Молчи!
Старуха всегда делала в кровать, потому что она не вставала. Адочка приходила домой, и повторялась та же сцена.
— Мамаша, я вам сказала, мамаша. Вы меня все-таки не хотите слушать!
— Э-э, — хныча отвечала ей старуха, — я хочю слюшать!
— Нет, вы не хотите делать так, как я вам говорю, мамаша! Я уж больше не могу…
Даня, сам давясь от смеха, мне одними губами:
— Молчи, чёрт!
Этот разговор за стенкой мы слышали каждый день.
Дальше, в следующей комнате, — а все комнаты были в одном ряду — жил отец Дани, Иван Павлович. Эта комната была средней в квартире: между нашей комнатой и комнатой старухи с дочкой и комнатами Даниной сестры Лизы.
Когда-то вся квартира принадлежала Ювачёвым. Но в те годы, когда я вышла замуж, она уже была коммунальной.
Иногда Иван Павлович в коридоре предупреждал меня или Даню, что сейчас к нам зайдет.
Это был очень высокий, скелетообразный старик с бородой и всегда бледным лицом.
Заходил он к нам очень редко, на несколько слов.
Даня моментально вскакивал и при нем никогда не сидел. Стоял навытяжку как солдат.
— Пожалуйста. — говорил отец Дане, — ты можешь сидеть. Садись.
Но Даня не садился. Я тоже стояла.
И я не помню, чтобы и отец сидел у нас в комнате.
Приходил он, чтобы что-то спросить Даню или ему что-то не понравилось, и он зашел, чтобы сказать об этом Дане.
Говорил Иван Павлович негромко, вполголоса.
А курить не разрешал, и Даня в его присутствии не курил.
Со мной он был мил, и, по-моему, хорошо ко мне относился, но я его боялась и не стремилась сблизиться.
Он был чрезвычайно аскетичен. Буквально ничего не ел.
У него была мисочка. И ложка. Эта ложка потом досталась мне, но куда-то пропала. Он наливал в эту мисочку горячей воды, и в нее вливал ложку подсолнечного масла. И крошил в воду черный хлеб. Это была вся его еда. Никаких каш, супов — ничего, кроме этой тюри.
Был совершенный аскет. И его все побаивались. Даже считали, что он повредился в уме.
В его комнате была очень скромная обстановка: ничего, кроме стола, стула и кровати. Даже книжный шкаф не помню, — наверное, был.
И он все время писал. Я, к сожалению, ничего из написанного им не читала. Но мне говорили, что это замечательные вещи.
После его смерти — а может быть, я ошибаюсь, это случилось раньше — нет, все-таки, наверное, после его смерти, — все его рукописи забрали и свезли в Казанский собор. Весь его архив.
Известно, что Иван Павлович Ювачёв был близок к Толстому. И не раз бывал в Ясной Поляне.
Он был народовольцем, за участие в покушении на царя его приговорили к смертной казни, которую потом заменили пожизненной ссылкой.
Но в конце концов его отпустили. И после ссылки он женился.
Даня рассказывал мне такую историю.
Отец его был приглашен в поместье к Толстым. Мать Дани, которую я уже не застала, потому что она умерла еще до того, как мы познакомились с Даней, была на сносях, ждала ребенка.
Иван Павлович позвонил ей по телефону из Ясной Поляны и кричал довольно громко, потому что такие были телефоны и только так его было слышно. Он сказал: «Будь осторожнее, роды уже близко. Ты разрешишься 30-го декабря. И родится мальчик. Назовем его Даниилом». Жена что-то возражала. Но он ее оборвал: «Никаких разговоров! Он будет Даниил. Я сказал».
Дальше, за отцом, были, если не ошибаюсь, две комнаты, в которых жила сестра Дани со своей семьей.
Лиза была замужем за ярым коммунистом, и поэтому мы к ним не ходили и с ними не разговаривали.
Сам Даня с сестрой говорил, но совершенно холодно и только по-немецки.
Мне было строго-настрого запрещено к ним ходить. Даня с самого начала мне сказал: «Нечего тебе туда шляться, я тебе говорю! Нечего тебе там делать». Так что Лиза была для меня недоступна, я не могла с ней разговаривать, и никаких теплых отношений с Лизой, с ее семьей у Дани не было. Из-за ее мужа-коммуниста.
Итак, наша с Даней комната занимала половину некогда большой комнаты.
На окнах — занавески, сделанные из простыни. Кажется, наши окна выходили на улицу. Потому что когда в дом напротив приходили и делали обыск, мы всё видели через дорогу.
В комнате стоял диван, — диван не диван, неширокая тахта, — продавленный, с большой дыркой посередине. Видимо, им пользовались вовсю. Когда я первый раз легла на него, я провалилась в эту дырку, собачка под диваном завизжала, — должно быть, ее задели пружины проклятые. Но когда люди молоды — Господи Боже мой! — всё это пустяки.
На стенах было много надписей. Довольно больших. Как плакаты. Вроде такой: «Мы не пироги. Пироги не мы!» Все эти надписи делал Даня.
Заметной вещью была стоявшая слева у стены фисгармония. Даня садился за нее не очень часто, хотя страшно любил музыку и играл с удовольствием. Играл он немного вещей, больше по памяти. Зато Яша Друскин, когда приходил к нам, всегда играл на ней [5].
Сохранилась одна фотография, на которой я сижу за этой фисгармонией вполоборота к объективу, и мои руки лежат на клавишах. Не помню, кто меня снял. Но это так, изображение, — меня попросили так сесть, я и села, я никогда не умела играть на фисгармонии, к сожаленью.
Был стол, на котором мы ели, когда было что есть.
И печка, половина которой была у нас, а другая половина — у старухи с дочерью.
Однажды ночью Даня разбудил меня из-за этой печки.
— Слушай, я хочу спать, — сказала я.
— Нет, подожди, я что-то тебе скажу.
— Ну что, говори скорее.
— Давай покрасим печку.
— Зачем?! На чёрта надо ее красить?
— А просто интересно!
— Ну чем, чем интересно?! Чёрт с ней, с этой печкой.
— Нет, у нас тут есть розовая краска. И мы покрасим печку в розовый цвет…
Словом, он разбудил меня. И мы этой несчастной розовой краской красили печку всю ночь. И потом покрасили в розовый цвет всё, что могли. Другой краски у нас не было. И, крася, очень смеялись, держались за животы. Нам обоим было почему-то очень весело.