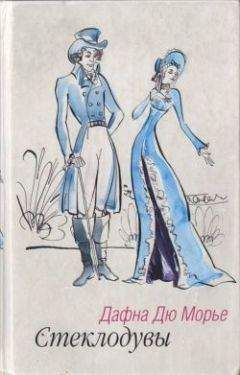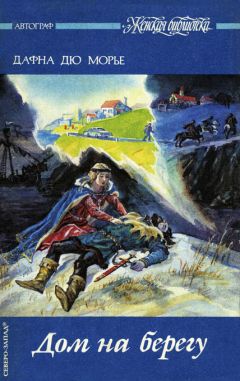– Конечно нет, если тебе этого хочется, – ответила Эдме.
– А потом, когда меня не станет, ты можешь вернуться к Софи и наслаждаться комфортом в доме господина мэра. Как ты на это смотришь?
Теперь настала очередь Робера вспомнить, как они расстались на улице Траверсьер. Горечь и озлобление, которые он тогда испытывал, были забыты, исчезли навсегда после слов Мишеля. Братья являли сейчас странный контраст прошлому: Робер, некогда блестящий денди, сгорбился, платье висело на нем как на вешалке, крашеные волосы были тронуты сединой, глаза скрывались под очками; а бывший террорист Мишель, гроза всей округи Мондубло, готовый сражаться с целым миром, превратился в умирающего старика, которому предстояла его последняя битва.
Если бы они это знали тогда, повторяла я себе, если бы они знали, может быть, они вели бы себя иначе, может быть, не стали бы ссориться. И не было бы одиночества, злобы, мучительной тоски – всего, что терзало их между прошлым и настоящим.
– Я поеду с тобой, – сказал Робер. – С радостью и гордостью. А все эти разговоры, что тебе осталось жить полгода, – это мы еще поспорим.
Если я выиграю, тем лучше для обоих. А если проиграю, то, по крайней мере, не придется платить.
Ясно было одно: ни лондонские туманы, ни мрачная камера Королевской тюрьмы, ни близкая смерть Мишеля – ничто не могло изменить натуру моего старшего братца-игрока, лишить его чувства юмора.
Мой старший брат проиграл пари. Мишель умер через шесть месяцев, в апреле тысяча восемьсот третьего года, слава богу, без особых мучений. Еще за день до смерти он продолжал работать, и конец наступил внезапно, во время приступа кашля. Вот только что он разговаривал с Эдме, а в следующую минуту его не стало. Мы привезли тело в Вибрейе и похоронили на кладбище, где со временем буду лежать я сама, а после меня мои сыновья. Никто из нас не желал, чтобы продлилась его жизнь. Силы Мишеля угасали, а примириться с жизнью инвалида, коротающего свои дни в удобном кресле, ему было бы очень трудно. Присутствие брата очень скрасило его последние месяцы. Робер, по словам Эдме, обращался с ним так ласково, что лучшего нельзя было и желать. Он стелил Мишелю постель, помогал ему одеваться, сидел с ним ночью, когда приступы кашля становились особенно жестокими. И все это делалось легко и весело.
– Я не хотела, чтобы он с нами ехал, – призналась Эдме, – но уже через две недели поняла, что на него можно положиться полностью. Если бы не Робер, я не знаю, как у меня хватило бы сил встретить конец.
Итак, мой младший брат покинул нас первым, и мне хотелось думать – я ведь никогда не переставала верить в Бога, – что теперь, когда его нет с нами, он там, на небе, вместе с нашим отцом работает в некоей небесной стекловарне, он спокоен, со всем примирился и больше не заикается. Наши чувства позволяют нам превратить загробную жизнь в волшебную сказку для детей, но мне это нравится больше, чем теория Эдме о полном забвении.
Смерть Мишеля так страшно на нее подействовала, что жизнь оказалась для сестры лишенной смысла. Последние семь лет она жила только для него, и теперь, когда Мишеля не стало, она чувствовала себя потерянной. Слишком долго они делили все поровну: у них была одна вера, одинаковый фанатизм и даже общее крушение мечты – когда рухнуло их предприятие, они находили утешение в том, что это их общая катастрофа.
– Ей нужно снова выйти замуж, – решительно заявил Франсуа. – Муж, дети и домашние заботы скоро ее вылечат.
Я подумала о том, что некоторые мужчины напрасно думают, что заботы о покое и удобствах какого-нибудь чужого человека, штопанье его белья и носков могут удовлетворить такую женщину, как моя сестра Эдме с ее живым умом и тягой к спорам. Ведь живи она в другие времена, она бы стала бороться за свои убеждения с такой же страстью, как Жанна д'Арк.
Для Эдме революция закончилась слишком рано. Победоносными армиями Бонапарта можно было гордиться, однако, по ее мнению – и по мнению Мишеля, если бы он был жив, – вся эта слава не более чем пустая насмешка, годная лишь для того, чтобы тешить честолюбие генералов, – массы людей в этом участия не принимали. Из друзей Первого Консула составилась новая аристократия, разукрашенная, разубранная перьями и лентами; все они толпились вокруг него, плутовали и интриговали ради того, чтобы добиться милостей, совсем как прежние придворные в Версале. Изменились только имена.
– Я пережила свое время, – говорила Эдме. – Меня надо было отправить на гильотину вместе с Робеспьером и Сен-Жюстом, или же мне следовало погибнуть, защищая их идеалы на улицах Парижа. Все, что было после, испорчено и прогнило.
Нескольких недель, что она прожила с нами в Ге-де-Лоне, оказалось достаточно. Она скучала, не могла найти себе места. А потом быстро собралась и отправилась в Вандом в надежде отыскать кого-нибудь из «бабёфистов»,[52] которые, возможно, еще уцелели. Некоторое время мы ничего о ней не знали, а потом стало известно, что она пишет статьи для Гесина, друга и соратника Бабёфа, – он снова был на свободе и боролся против законов о воинской повинности.
Я всегда говорила, что Эдме следовало родиться мужчиной. Ее ум, упорство никак не подходили для женщины и только даром пропадали.
Когда наступила весна, мы с Робером поехали в Сен-Кристоф, чтобы повидаться с Пьером, который, конечно, приезжал до этого на похороны Мишеля, так что братья уже виделись. Это свидание не вызывало во мне опасений. Пьер встретил нашего эмигранта так, словно тот никуда не уезжал, и тут же предложил ему ту часть матушкиного наследства, которую берег, с тем чтобы впоследствии передать Жаку. Доход от небольшой фермы и виноградника был невелик, однако его было достаточно, чтобы брат мог на него существовать и даже что-то откладывать.
– Вопрос в том, – сказал Пьер, – что ты предполагаешь делать с этим наследством.
– Предполагаю не делать ничего, – отвечал Робер, – пока не переговорю об этом с Жаком. Я ничего не понимаю с этим его призывом в армию. Разве нельзя было бы уплатить компенсацию, с тем чтобы его отпустили?
– Нет, – ответил Пьер. – Но даже если бы… Он не договорил и посмотрел на меня. Я очень хорошо понимала, о чем он думает. Жаку было уже почти двадцать два года, и он был уверен, – по крайней мере, мы так считали, – что отец его умер. Изменить этого было нельзя, независимо от того, будет ли Жак продолжать служить в армии или нет.
– Мне кажется, ты должен знать, – сказал Пьер, – что за все время, что мы живем в Сен-Кристофе, Жак ни разу не упомянул твоего имени. Мои ребята говорили мне то же самое. Может быть, он разговаривал о тебе с матушкой, когда жил с ней, но со мной – никогда.