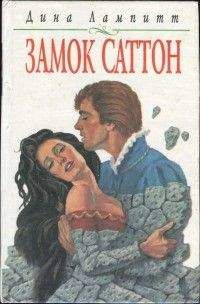Анна, сделав над собой огромное усилие, оправилась от удара, нанесенного ей двумя выкидышами, напрягла свою могучую волю, чтобы отразить натиск Маргарет Шелтон, пригладила волосы, чтобы они опять заблестели, с помощью лосьонов и кремов привела в порядок кожу — и вновь затмила всех женщин при дворе. Никогда еще она не смеялась так весело, никогда так легко не танцевала, никогда еще не было столько блеска в ее умении держать себя. Шепотом рассказывали, что, когда Мор в Тауэре осведомился о том, как поживает королева, и ему сказали, что она чувствует себя лучше, чем когда-либо — танцует и развлекается все дни напролет, он произнес:
— Эти ее танцы приведут к тому, что наши головы слетят с плеч, как капустные кочаны, но пройдет немного времени — и ее голова полетит вслед за нашими.
Зловещее пророчество исходило от человека, отказывающегося признать Закон о престолонаследии, утверждающий, что будущими правителями Англии должны быть потомки Анны, и Закон о верховной власти, провозглашающий главенство Генриха Тюдора над церковью.
Захарий склонился над магическим кристаллом и увидел, что тот окрасился в траурный черный цвет. И тут стали происходить странные вещи — с ним и раньше случалось подобное в такие моменты. Будто он оказался в будущем, невидимый, но способный видеть. Опершись о сырые, убогие стены Кимболтонского замка, он наблюдал, как угасает едва теплящаяся жизнь Екатерины Арагонской. Она лежала на небольшой, с виду жесткой кровати, и только по ее губам, которые шевелились, произнося молитву, было видно, что она еще жива. В комнате присутствовало несколько человек, один из них — священник. Вокруг кровати стояли на коленях знатные дамы-испанки из свиты Екатерины — последние верные ей слуги. Захарий поймал себя на том, что пристально смотрит на одну из них. Когда Екатерина испустила последний вздох и веки ее мертвых глаз открылись, так что все могли видеть застывшую в глазах грусть, маленькая темноволосая женщина поднесла ее руку к своим губам. Она не произнесла ни слова, но находившийся в трансе Захарий мог читать ее мысли.
Он слушал, как она говорит про себя: «Да будет месть. Пусть сама королева нанесет ответный удар сидящей на троне шлюхе. Да свершится Божий суд. Пусть призовет его моя ненависть».
И вот он увидел, как черная спираль — сгусток энергии и силы — вихрем ворвалась в комнату и обвилась вокруг коленопреклоненной фигуры. Затем он вновь оказался в своей комнате, и перед тем, как кристалл окончательно помутнел, Захарий совершенно отчетливо увидел лицо своего отца, и что-то подсказало ему, что именно Норфолк не только произнесет смертный приговор королеве Анне, но и будет каким-то загадочным образом способствовать ее падению.
Ветер принес с реки отдаленные звуки барабанной дроби и крики толпы, и Захарий понял, что сэру Томасу Мору пришел конец. Честнейший человек королевства умер за свои убеждения. Захарий знал, что, услышав новость, Анна вздохнет с облегчением, поздравит себя с тем, что ее непримиримый враг наконец устранен, не понимая, что, как у сказочного чудовища на месте одной отрубленной головы вырастают другие, так и одного уничтоженного противника заменят шесть новых.
Где большой Виндзорский лес переходит в Саттонский, мог определить лишь тот, кто до последнего деревца знал границы поместья. Фрэнсис, проезжавший здесь так часто и в самых разных настроениях, едва осознавал, что едет по земле своего отца; там, где когда-то с гончими и соколами охотились короли саксов. Он ничего не замечал, ибо никогда еще в свои двадцать четыре года не чувствовал себя таким опустошенным и подавленным, как сейчас. Последние семь месяцев Фрэнсис находился во власти любовной лихорадки, подобной которой он не испытывал никогда в своей жизни. И все же назвать это любовью значило бы оскорбить это слово. Страсть к Маргарет Шелтон лишала его здоровья. Он был опьянен, весь горел, был болен оттого, что постоянно ее хотел. Когда он бы с ней — в ее постели, в потаенных уголках садов, в полях — везде, где он мог обладать ею, он чувствовал ликование. Когда они разлучались, единственное, на что он был способен — это строить планы их дальнейших встреч и думать о том, какими способами он может доставить ей удовольствие. Это было как болезнь, от которой не хотелось излечиваться. Он чувствовал, что скорее умрет, чем разлучится с Мэдж.
Он жил в созданном им самим ужасном мире, и ему некогда было думать о чем-либо, кроме своей ненасытной любовницы. О Розе, родителях, сестрах и даже о поместье Саттон он думал теперь редко и с неохотой, не желая даже на несколько секунд отвлекаться от своих лихорадочных мыслей, вновь и вновь переживая восторг, который он испытывал в греховных объятиях Маргарет Шелтон. Он даже не потрудился заменить амулеты, которые так долго защищали его, опасаясь, как бы при встрече Захарий не заметил в нем признаков безраздельно владеющего им желания, медленно его разрушающего.
Поэтому, когда ему неожиданно передали письмо, в тот самый момент, когда он собирался урвать часок-другой и провести его с Мэдж, он был недоволен, что ему помешали. Но когда Фрэнсис вскрыл его, ему стало тошно от отвращения к самому себе. Письмо, датированное 6 декабря, было от отца: «Мой преданный и горячо любимый сын! Надеюсь, тебе будет приятно узнать, что сегодня, час спустя после рассвета, твоя жена после трудных родов, к твоему удовольствию и тебе в утешение, благополучно разрешилась от бремени, произведя на свет сына. Оба они — и он сам, и его мать — в настоящий момент находятся в добром здравии. Надеюсь, что скоро увижу тебя в поместье Саттон.
Горячо любящий тебя отец
Ричард Вестон».
И, получив такое известие, Фрэнсис — по его собственному же убеждению — пал настолько низко, что как ни в чем не бывало отправился к мадам Шелтон, и его тело ритмично двигалось, и он обливался потом и визжал от восторга, как будто Розы и их маленького наследника вовсе не существовало на свете.
Когда он вернулся в свою комнату, то почувствовал себя совершенно разбитым. Он склонился над раковиной и его стошнило от отвращения к себе и отчаяния. Потом он обхватил руками голову и зарыдал. Он предал свою жену и своего первенца, согрешил против Господа, поддался низменным, животным инстинктам. Но не в его силах было что-нибудь изменить. Он страстно желал Маргарет, готов был жизнь отдать, только бы она была с ним, и не знал, как избавиться от этого кошмара.
И теперь Фрэнсис ехал домой: королева предоставила ему недельный отпуск. Когда он сказал ей, что, наконец, стал отцом, она одарила его лучезарной улыбкой, и Фрэнсиса это нисколько не удивило: хотя сама Анна ничего никому не сказала, весь двор только и говорил о том, что она опять беременна и вернула себе любовь Генриха. «Так оно и есть, — печально думал Фрэнсис, — недаром Мэдж была теперь более доступна. Господи, до чего он дошел! Как свинья у кормушки, ждет своей очереди, чтобы общая женщина одарила его своей благосклонностью».