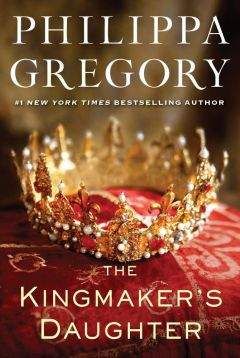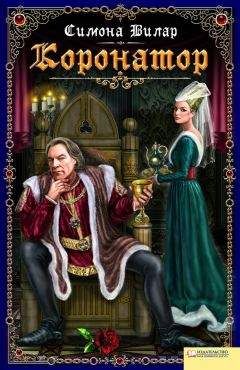Филип знал одно имя – Хель. Так у них в Чевиотских горах называют черную дьяволицу, что таскает души младенцев и приносит чуму. Он хотел поднять руку, чтобы перекреститься, но не смог. Собственное тело не слушалось его. Голос бубнил и бубнил над ним. Потом Филип услышал другой голос, негромкий и такой знакомый.
– Господь и его милосердная матерь, сжальтесь, не забирайте его…
Он узнал этот голос. Ему хотелось позвать ту, что молилась, но он не издал ни звука и стал медленно проваливаться в глубокое забытье.
Он спал или, может быть, бредил. Схватка, мечи. Он бросил повод коня отцу Анны… «Защищайтесь, бейтесь со мной! – крикнул он Уорвику. – Я выведу вас с поля!» Потом наступил внезапный мрак. Осталось чувство, что он что-то не закончил.
Еще он помнил дикую до умопомрачения боль в ноге. Трещала кость. Какие-то люди убегали от него, подобно стае шакалов. В руках у одного из них его сапоги. Он понял, что нога сломана, и, когда мародер стаскивал сапог, боль вернула ему сознание. Он попытался сесть.
Пошел дождь. Он лежал на поле боя, среди трупов, не в силах ничего сообразить. Гудела голова, в ушах стоял нестерпимый звон. Он начал было подниматься, но от новой боли в лодыжке едва не потерял сознание.
Попробовал ползти. Он не знал, где он, но холодный ливень был приятен. Зачем он встал? Да, он начал подниматься, держась за дерево. Он видел, как мародеры добивают раненых, и не на шутку испугался. Сейчас он слаб, как ребенок, беспомощен. Эти мерзавцы взяли его сапоги… Он хотел идти, но упал. Боли не было. Только резкий толчок в спину…
Он вновь слышал. Так отчетливо, словно окончательно пришел в себя. Кудахтанье кур, писк цыплят. Молоко било струей в днище звонкого сосуда – рядом доили корову или козу. Он почувствовал, как чьи-то руки приподняли изголовье, расправили волосы, обмыли рану и наложили пахучую мазь. Запахло травами, болотом… Грудь вновь пронзила молния боли. Он застонал.
– Фил! Филип, ты слышишь меня? Дорогой мой, ты слышишь меня?
Он попытался поднять веки. Они были тяжелы, как свинец. И все же он различил радужные отблески – не то от очага, не то от свечи. Губ коснулся край сосуда. Молоко, еще теплое… Потом он снова уснул.
Хижина угольщика, куда поместили Филипа, была сложена из жердей, обмазанных глиной и выбеленных известью, и увита плющом и диким виноградом. Пол был земляной, но очаг имел дымоход, а окна были затянуты бычьим пузырем.
Хозяева – рослый угрюмый углежог, его согбенная ревматизмом жена и их сын-подросток. Они без слов уступили раненому рыцарю свою крытую овчиной постель и погрузились в повседневные заботы, и лишь их сын с любопытством следил, как рыцарю промыли и забинтовали голову, смазали раны на теле, а сломанную ногу зажали между двух связанных дощечек. Мальчик видел, что так нередко делал их сельский костоправ.
Вытащить же засевшую в груди рыцаря стрелу приезжие долго не решались, так что он не выдержал и побежал к матери.
– Они не справятся. Мам, помоги им.
Его мать умела врачевать. В селении она слыла ведьмой, и люди обходили их дом стороной. Однако, когда кто-нибудь серьезно заболевал или девушка хотела приворожить парня, все они шли к Старой Мэдж, жене угольщика Лукаса. Ее называли Старой, хотя ей и тридцати-то еще не было, но ее так скрутил ревматизм, что она походила на древнюю старуху. Ее свекровь утверждала, что это Бог лишил Мэдж здоровья за то, что она якшается с дьяволом. Она не любила невестку и всем и каждому втолковывала, что та приворожила ее Лукаса, а как же иначе, если он, такой сильный и здоровый мужчина, живет с безобразной хворой бабой и даже не глядит на сельских красоток.
– Мама, помоги им, – снова попросил мальчик.
– Зачем мне помогать им, Лукас? Зачем? Опять пойдут слухи, явится отец Гудвин, будет все кропить святой водой, а мне грозить геенной огненной. Ты же знаешь, как бывает потом, когда я их лечу.
И все же, когда спустя час она вернулась в дом и увидела лицо девушки, ей стало не по себе. Рыцарь лежал на кровати, грудь его была туго перебинтована, но кровь медленно и неуклонно проступала сквозь повязку, расплываясь широким пятном.
Воин, бывший с ними, куда-то уехал. Девушка стояла на коленях, уперев локти в лежанку и прижав к губам бессильную руку рыцаря. Она не издавала ни звука, но слезы текли и текли из ее глаз.
Мэдж вышла, развесила на изгороди мокрую куртку мужа, выплеснула из лохани грязную воду. Постояла, поглядела на свои узловатые пальцы, подняла глаза к ясному небу и решительно вернулась в дом.
– Хочешь, я его вылечу?
Анна повернулась к этой странной, изувеченной хворью женщине с седыми волосами и удивительно светлыми глазами.
– Если ты это сделаешь, я до конца дней буду за тебя молить Бога.
Мэдж усмехнулась.
– Так уж и будешь!
Анна смотрела на нее. В голосе ее была трещина.
– Да я бы самому дьяволу отдалась, лишь бы он выжил!
Таких слов даже Мэдж испугалась и быстро начертила пальцем старинный знак, охраняющий от темных сил.
– Надеюсь, это не понадобится.
Она отстранила молодую женщину, села подле рыцаря и сосредоточилась, растирая пальцы. Потом, когда знакомое покалывание появилось в ладонях, она скрестила свои узловатые руки над окровавленной грудью рыцаря и стала неторопливо нашептывать древние заговоры, одновременно отдавая ту живительную силу, какой владела и которую старалась скрыть от всех и которая могла помочь кому угодно, кроме нее самой.
Она почувствовала, что рыцарь выходит из забытья, хотя он и не пошевелился. Она заговаривала кровь, отводила лихорадку, что могла завестись в ране, возвращала силу. Когда она закончила, почувствовала себя совсем пустой. Со стоном поднялась.
– Он не умрет. Не веришь?
Вместо ответа Анна опустилась на колени и поцеловала ее руки.
На закате того же дня Филип впервые открыл глаза и краем губ улыбнулся Анне.
Когда она напоила его молоком пополам с подогретым вином и Филип уснул, Анна тоже прилегла рядом на краю ложа. Она не смыкала глаз около трех суток, и сон сморил ее мгновенно. Она спала так крепко, что не слышала ни топота копыт, ни звона доспехов, ни громких голосов. Хозяева хижины за перегородкой всполошились, угольщик схватился за топор, но успокоился, когда в комнату вбежал сопровождавший рыцаря воин. А Оливер, увидев спящую рядом с Майсгрейвом принцессу, сначала опешил, а потом кинулся к ней, стал торопливо трясти за плечо.
Анна проснулась не сразу, и не сразу сообразила, что в хижину набилась добрая дюжина ратников. В руках у них пылали факелы, доспехи их громыхали. Встревоженные куры, кудахча, бились сослепу о сапоги воинов, били крыльями. Испуганно подала голос корова за перегородкой. Анна села, щурясь и еще ничего не понимая.