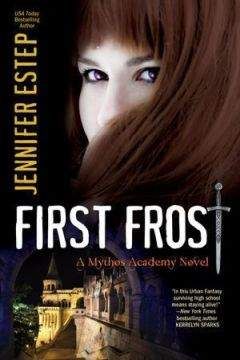На трон взойдет Генрих III. Наконец-то у нас будет король, достойный Франции.
— Можно, если хотите, пробраться ближе к воротам, и тогда вы первой встретите его, — проговорила Лукреция, чувствуя мою радость.
— Не надо. — Слезы навернулись мне на глаза. — Эта минута принадлежит ему, так пускай насладится ею сполна.
И все же, когда я наконец увидела, как сын в сопровождении свиты въезжает во двор, так гордо и прямо сидя в седле, я не сумела сдержаться.
— Генрих, мой сын! — Протолкавшись через толпу, я простерла к нему руки. — Генрих!
Сын спешился, и я бросилась к нему в объятия, вдохнула незнакомый резкий запах. Темные волосы его надушенными волнами ниспадали из-под шляпы, лиловый камзол облегал тугое, мускулистое тело. Я обхватила его лицо руками, и он, наклонившись, поцеловал меня в губы.
— Милая матушка! — прошептал Генрих и, не выпуская меня из объятий, повернулся к замершей в ожидании толпе. — Сегодня, — произнес он звенящим голосом, — я воздаю почести своей матери, которая твердой рукой провела эту страну через множество бед и опасностей, дабы я смог дожить до сегодняшнего дня.
Все вокруг зааплодировали, а я почувствовала, как по лицу текут ручьями непрошеные слезы.
Мы вернулись в Париж, двигаясь по дорогам неспешной процессией, чтобы народ мог вдоволь насмотреться на Генриха. Он ехал верхом во главе кавалькады, до мелочей похожий на того короля, каким я всегда представляла его в мечтах; разодетый в сиреневую, шитую серебром парчу, он царственно, но вместе с тем от души махал рукой людям, толпившимся по обочинам дороги, а они кричали: «Да здравствует Генрих Третий! Да здравствует король!»
В Лувре я устроила пир в честь Генриха, украсив зал ветвями вечнозеленых растений — символом постоянства. Я сидела на возвышении рядом с Генрихом и Эркюлем; по обе стороны от нас протянулись в зал столы, за которыми сидели Гиз (я разрешила ему вернуться в честь восхождения Генриха на трон), его дядя монсеньор и другие католические вельможи. Марго заняла место за отдельным столом, вместе с дворянскими женами и другими влиятельными дамами двора.
Генрих восседал на троне, и на голове его красовался королевский венец. Он сердечно беседовал с придворными, которые выстроились в ряд, чтобы обратиться к нему с приветствиями, и называл каждого по имени с той безошибочной точностью, которая напомнила мне его деда Франциска I. Мы угощались жареным мясом вепря, лебедями, павлинами и фазанами; после пиршества труппа карликов разыграла комическую пьесу. По окончании представления Генрих подал знак своему телохранителю Гуасту, и тот бросил актерам кошелек с золотом. Карлики попадали на пол и, теряя парики, принялись драться за добычу, что вызвало у зрителей новые раскаты бурного хохота.
— В Савойе у каждого вельможи имеется собственная театральная труппа. — Генрих зевнул. — Никто больше не содержит шутов. — Он повернулся к Эркюлю, который глазел на дерущихся карлиц с таким видом, словно готов был проглотить их живьем. — Как думаешь, обезьянка? Не избавиться ли нам от шутов?
Вопрос прозвучал добродушно; Генрих никогда не проявлял враждебности по отношению к младшему брату, однако сейчас Эркюль покраснел точно рак и огрызнулся:
— Я тебе больше не обезьянка! Я теперь дофин!
Генрих улыбнулся и снова перевел взгляд на заполненный людьми зал. Музыканты настраивали инструменты.
— Монсеньор, пару слов о мадам Лотарингской-Водемон, — внезапно проговорил мой сын, когда придворные начали выбирать партнеров для предстоящего танца.
Я понятия не имела, о ком речь. Монсеньор, сидевший с другой стороны, подался ко мне, и по его изможденному лицу стало ясно, что он подслушивал каждое наше слово.
— Его величество имеет в виду мою кузину Лотарингскую, с которой познакомился недавно в Савойе. Она занимает место фрейлины в свите герцогини.
— Да, — сказал Генрих, — она очаровательна. Я хотел бы видеть ее при нашем дворе. Позаботьтесь об этом.
— Почту за честь, — ответил монсеньор медоточивым тоном, который появлялся у него всякий раз, когда он чуял выгоду.
Пускай он от старости лишился почти всех волос и зубов, но ум его по-прежнему работал, как хорошо смазанный механизм. Я собиралась уже наклониться к Генриху и подробнее расспросить его о вышеупомянутой мадам Лотарингской-Водемон, но тут заметила, что взгляд сына переместился на Гуаста, который мрачной тенью маячил у подножия помоста.
— Я так устал. — Генрих опять зевнул. — Пожалуй, стоит удалиться к себе.
— Но как же танцы? — возразила я. — Все ожидают, что ты будешь открывать бал.
— Пускай этим займется Эркюль. Может взять себе в пару Марго.
Прежде чем я успела возразить, Генрих встал и, спустившись с возвышения, вышел из зала. Гуаст следовал за ним по пятам.
Я притворилась, что не замечаю колкого взгляда монсеньора, и отыскала глазами дочь. Она перебралась из-за стола на кушетку, стоявшую возле пилястров, и сейчас полулежала там, окруженная толпой воздыхателей. Зрелище это не прибавило мне спокойствия.
Словно почувствовав мой взгляд, она подняла голову и посмотрела на меня — холодно и многозначительно.
Я проснулась еще до рассвета. Нам с Генрихом предстояло обсудить список дел для заседания Совета, которое должно состояться на этой неделе, — первого заседания, на котором он будет присутствовать в качестве короля. Наспех позавтракав, я сложила бумаги в портфель, вышла и в коридоре повстречала Бираго. Он тяжело опирался на палку, и его морщинистое лицо искажала гримаса боли.
— У тебя распухла нога, — заметила я. — Опять подагра?
— Боюсь, я переел на пиру. — Бираго поморщился. — Впрочем, я принял питье и…
— И должен сегодня отдохнуть, — перебила я.
Бираго хотел было запротестовать, но я предостерегающе вскинула руку:
— Нет. Возвращайся в постель, друг мой. У меня всего лишь частная встреча с сыном. Я потом к тебе загляну.
Бираго благодарно кивнул и, хромая, ушел, а я двинулась дальше. Свернув за угол, в королевское крыло, я увидела, что у дверей в покои Генриха стоит часовой.
— Его величество еще не вставал, — сообщил он. — И велел, чтобы его не беспокоили.
— Что ж, пора ему и проснуться. Посторонись.
У солдата хватило ума не прекословить, и я прошла в приемную сына. В комнате царил полумрак, лучи восходящего солнца лишь едва пробивались между плотными занавесями. На столе стояли графин и два кубка; полуоткрытая дверь в стенной панели вела в спальню. Я шагнула к этой двери, и вдруг меня охватило странное, недоброе предчувствие. Было так тихо, что я могла различить доносившееся из-за двери похрапывание. Заглянув в спальню, я увидела прямо перед собой кровать; алые занавески балдахина были раздернуты, и взору моему предстал крепко спящий Гуаст. Его мускулистое тело было совершенно обнажено, поросшая темным волосом рука откинута поверх измятых подушек.