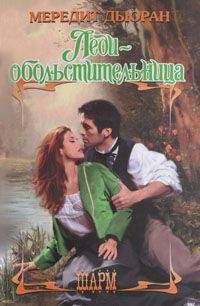А еще Оливия осознала, что прикасается рукой к своей губе. Оливия потерла ее костяшками пальцев. Он – тиран, сумасшедший. Она даже думать не будет о том, что его беспокоит. Ничто на свете не может оправдать его поведение.
Впрочем, причины были ей известны. Она же читала письма герцогини. Судя по тому, как они поразили ее и какое вызвали отвращение, оставалось только догадываться о том, какой эффект они произвели на Марвика.
Как Оливия жалела, что прочитала их! Потому что он не заслужил этой внезапной, мимолетной симпатии, совершенно смешной, испытывая которую… это ощущение совсем не похоже на желание защититься, а как раз наоборот.
Проснувшись на следующее утро, Оливия ощутила отвратительное чувство обреченности. Она не могла связать его даже с Бертрамом – нет, оно исходило сверху, из покоев, в которых, как в мерзкой берлоге, томился герцог Марвик.
Оливия в одиночестве позавтракала в гостиной, примыкающей к ее спальне. Сквозь стены до нее доносились приглушенные голоса служанок, готовящих себе еду за длинным столом в галерее. Ей показалось, что голоса звучат довольно тихо, без обычных выкриков. Возможно, кто-нибудь – Викерз скорее всего – рассказал всем о прошлом вечере.
Когда Оливия вышла из гостиной, чтобы дать служанкам задания, ее подозрения подтвердились. Полли, Мьюриел и Дорис поздоровались с нею очень кротко, а Мьюриел, прежде чем выйти из галереи, прошептала:
– Вы очень храбрая.
Храбрая? Вероятно, Викерз услышал от Джонза весьма приукрашенный рассказ о произошедшем. Оливия вовсе не ощущала себя храброй. Неожиданно она почувствовала себя подавленной. Впрочем, герцог – не ее забота. Он может жить или умереть, как ему хочется.
Хотя ее вполне устраивает, чтобы он жил до тех пор, пока у нее не появится шанс обыскать дом.
«Это чудовищно», – хмурясь, подумала Оливия. На самом деле она так не думает. Она не злая. И желает ему самого лучшего – даже если он этого не заслуживает.
Выйдя из задумчивости, Оливия обнаружила, что остановилась на лестнице. Внутреннее волнение заставило ее остановиться, а ведь именно бездействия она не может себе позволить.
Сегодня, решила Оливия, она должна начать поиски. Потому что завтра, без сомнения, горничные вновь начнут относиться к ней с презрением и флиртовать с лакеями, заманивая их в темные комнаты, где им совершенно ни к чему заставать Оливию, по уши зарывшуюся в вещи герцога.
Сад гудел все лето. Из темноты своей комнаты, выходящей на клумбы с цветами, Аластер слушал эту какофонию. В окно бились пчелы. Играя около дома, болтали белки. Ранним утром сквозь оконные стекла проникало птичье пение. Все это приводило его в ярость, и в голове стучало.
Ему ничего не нужно от лета. Этот дом станет его могилой. Пьяный, взбешенный, Аластер проклинал жизнь в саду.
Сейчас, поздним октябрьским утром, он проснулся в тишине. Сад умер. Аластер ощущал его неплодородность. Тишина давила на зашторенные окна, как кулак, готовый пробиться сквозь стекло.
Эта тишина – такая оглушающая – несла ему свое послание: он пропустил что-то потрясающее, позволил ему пройти мимо. И это «что-то» никогда к нему не вернется.
Аластер встал. (Зачем? К чему?) В высоком зеркале над туалетным столиком отражалось худое лицо с запавшими глазами – лицо голодного волка. Глаза горели, губа изогнулась, обнажая зубы.
Когда-то он пользовался этой презрительной усмешкой в парламенте – это был прекрасный подручный инструмент, заставляющий его противников замолчать. Сейчас он служил только для того, чтобы заставить замолчать его самого.
Аластер противился этому.
– Ты не уберешься прочь? – резко бросил он.
Прочь: туда, где за ним будет наблюдать огромное число глаз. После бесчисленных месяцев сплетен о нем. «Посмотрите, во что он превратился». Когда-то его называли «надеждой Англии». Мысли о том мире, о глазах, ртах покружились вокруг него, угнездились в груди и стали тяжелыми, как камень. При мысли о мире за пределами дома в легких не оставалось воздуха, Аластер не мог дышать.
В воспоминаниях мира он – государственный деятель. Не глупец и не рогоносец, не человек, которого до безумия ослепило собственное высокомерие. Да не забудет грядущий мир его человеческую сторону. Даже если все его прошлое существование есть не что иное, как одна бесконечная ложь.
Опустившись на колени, Аластер начал свою гимнастику. Двенадцать лет назад, напившись в оксфордском пабе, его друзья заплатили старому солдату, чтобы тот продемонстрировал им свою стойкость. Тот устроил им обычную армейскую тренировку, и ни один из них, кроме самого солдата, не избежал рвоты.
Возможно, дело было в алкоголе. Но тренировка оказалась наказанием. Когда Аластер оторвался от пола, ему показалось, что в нем не осталось ничего, кроме желчи. Это ощущение было даже приятным. Уже четыре недели он устраивал себе такую тренировку, нуждаясь в усталости, которая следовала за упражнениями. Усталость была единственным средством от этой кислоты в жилах, от беспокойства, которое росло в нем, как садовая трава, от ярости.
Когда Аластер закончил и тяжелое дыхание пересушило горло, он подтянул к себе колени, уронил на них лоб и дал поту остудить кожу. Здесь, сейчас, только сейчас, один раз в день, была игра, в которую он позволял себе играть, зарабатывая это право физическим напряжением.
Эта тишина может быть любой тишиной. Это время – любым временем.
Четыре года назад, или пять… – все это началось тогда. Его жена одевается в соседней комнате. Если у нее хорошее настроение, она поет, примеряя бриллианты. Она одевается к вечеру. Каждый вечер устраиваются приемы: политикам нужны друзья, источники, которые можно использовать и которыми можно злоупотреблять.
Вечера бывали и здесь. Маргарет – отличная хозяйка, также известная своей способностью заниматься домом, как ее муж – добрыми делами, благородными поступками, превосходством. «Ты сделал мудрый выбор, – сказал ему кто-то. – В один прекрасный день она станет замечательной женой премьер-министра». Как он был рад этому комплименту! Как хорошо Маргарет смотрелась рядом с ним, когда держала его под руку, какие умные разговоры она вела!
Нет, это не могло быть четыре года назад. Должно быть, лет пять прошло. Четыре года назад Феллоуз вернулся в Лондон. И началось! Феллоуз, Нельсон, Баркли, Бертрам…
Аластер поднял голову. Он осатанел от этой мантры, от имен этих мужчин, с которыми она ему изменяла. Он столько раз прочитал ее письма, что мог бы повторить их наизусть, как монолог, как речь из какого-нибудь распутного пустого романа.
«…Мой муж – дурак, он понятия не имеет о том, кто я, чем я занимаюсь…»