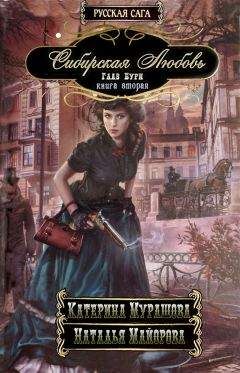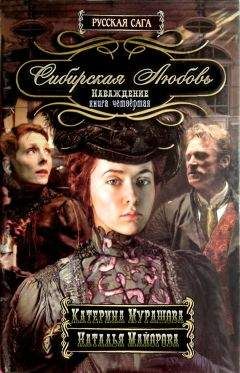– Успокойся, мой герцог, прошу тебя. Я вовсе не собирался тебя расстраивать…
– Почему ты зовешь меня герцогом? Я уж вроде привык, но все равно – порой раздражает… Зачем?
– Да вот по тому самому! В пику тебе! Ты снаружи окружил свое происхождение тайной, а внутри как с писанной торбой носишься с этой дурацкой историей про помойку, на которой тебя когда-то нашли… Нельзя сорок лет обижаться на несправедливость судьбы. Это глупо, в конце концов, особенно если поглядеть на то, чего ты достиг…
– Да уж достиг! – вздохнул Туманов. – В кои-то веки хотел сделать человека счастливым, а в результате отнял у него все и ничего не дал взамен…
– Послушай, но хоть в постели-то она хороша? Ты доволен? – с интимной участливостью спросил Иосиф, на всякий случай отодвигаясь на расстояние, превышающее длину руки Туманова.
– А-а-а! – простонал Туманов и махнул рукой.
– Что ж так?
– Ты романы читал? Веришь в эти сказки про страстных и порядочных девственниц? И про мужиков, которые сначала со всеми бабами в королевстве перетрутся, а потом встретят чистую, невинную, сходят с ней под венец, свалятся на свежую солому и немедленно испытают неземное блаженство, не идущее в сравнение со всем прочим… Ты в это веришь?
– Нет, конечно. Картошки пожрать все не дураки, но дельное бланманже сготовить – это уж учиться надо. Да и талант какой-никакой иметь.
– Вот и я про то же. Она ж, как ты понимаешь, девица и дворянка… А их, насколько я разобрал, учат этому делу так: в соответствующих обстоятельствах следует с достоинством, не роняя себя, уступить грязным мужским домогательствам… Впрочем, Софью, кажется, и тому не учили…
– Вот незадача… – Иосиф скорбно сдвинул брови и отвернулся, пряча горькую и торжествующую улыбку.
Кабинет был немаленького размера, но из-за обилия мебели казался тесным. Высокие, с темными стеклами шкапы стояли прижавшись боками, как слоны на водопое. А еще – диван, крытый темно-зеленой кожей, и письменный стол со множеством ящиков в толстенных тумбах, и два сейфа – один явный, облицованный деревом, солидно потертый, и другой – тайный, в выступе стены, дверца его была замаскирована картиной и фикусом. И главное – портрет Государя императора в полный рост, в казачьей форме и при шашке. Он один, казалось, занимал полкабинета, хотя на самом-то деле на площадь не претендовал, висел себе на стене над креслом господина судебного следователя, аккуратно зачесанную плешь которого Государь имел возможность разглядывать каждый день до десяти часов беспрерывно.
Эта плешь была тревогой и болью Густава Карловича Кусмауля. Если Государь с портрета взирал на нее вынужденно, то он – своей волей, извернувшись перед зеркалами, едва ли не с линейкой высчитывая, с какой скоростью пожирает проклятая лысина его пышную, цвета соли с перцем, шевелюру. Сей шевелюрой он привык гордиться – как и своей моложавой поджаростью, острым зрением, легким шагом. Совсем еще недавно старость была для него чистой абстракцией, и он только усмехался краешком губ, слушая жалобы ровесников на различные недуги. Болезни, господа, – исключительно продукт лености! Не для того ли умными людьми изобретены режим и гимнастика, чтобы мы не знали хворей? Главное – держать себя в руках, то есть иметь сильную волю… чем русские люди, как известно – увы! – не отличаются.
К русским людям Густав Карлович относился, впрочем, снисходительно. Нет, вовсе не потому, что и его, несмотря на японскую гимнастику, начала таки догонять старость. Снисходительность к чужим слабостям вообще была свойственна г-ну Кусмаулю. А иначе-то мыслимо ли было бы прослужить три десятка лет в судебном ведомстве, по уши погрузившись в самые что ни на есть непотребные человечьи деяния? И не ожесточиться сердцем, сохранив себя в полной мере для дружбы и любви… Этим, надо сказать, Густав Карлович тоже гордился.
Вернее – гордился до недавних пор. В последнее время на ум все чаще стал являться горько-циничный вопросец: зачем? Приподнявшись над собственной персоной и жизнью, Кусмауль глядел на нее и видел, точно как Государь император – плешь. Сиречь, пустоту.
Зрелище это было до того невыносимо, что Густаву Карловичу приходилось напрягать всю свою тевтонскую волю, чтобы продолжать просыпаться в пять тридцать, делать обливания, ездить на велосипеде и являться на службу в один и тот же час, сохраняя репутацию неподкупного педанта. Душу он мог отвести лишь в беседах со старинной приятельницей, которая, как и он, ценила умение держать себя в руках, будучи снисходительной к тем, кто таковым не обладает.
Приятельница эта, Елена Францевна Шталь, была по происхождению охтенской чухонкой – о чем, впрочем, никто не знал, кроме Кусмауля (да и тот выведал исключительно благодаря профессиональной привычке собирать досье на всех, с кем имел дело). Нет, родители ее никоим образом не были связаны с молочной торговлей, – кажется, у них имелось даже дворянство, что, однако, уже не суть важно, поскольку к шестидесяти годам Елена Францевна успела пережить двоих мужей, с каждым из них восходя все выше по общественной лестнице. Второй муж сделал ее остзейской баронессой. От него она родила младшего сына – единственного, оставшегося при ней до сего дня. Старший, блестящий офицер, погиб на Балканской войне.
Сидя в своем служебном кабинете под портретом Александра Третьего и перед ворохом бумаг, Густав Карлович занимался именно делами баронессы Шталь и ее семейства. Дела эти были весьма деликатного свойства и запутанны так, что Кусмауль, при всем своем следственном таланте, уже почти готов был признать себя в тупике.
А началось все несколько месяцев назад – весной, когда Кусмауль заглянул к Елене Францевне, чтобы поздравить ее с лютеранской Пасхой. Он нашел ее в меланхолическом настроении – что бывало отнюдь не часто и всегда по серьезным причинам. На сей же раз никаких причин горевать, сколько было известно Густаву Карловичу, не имелось. Да баронесса и не горевала. Сидя в будуаре перед зеркалом и подперев полной рукой круглый подбородок с ямочкой, она пристально смотрела на свое отражение, глубоко о чем-то задумавшись. Посмотреть, надо сказать, было на что. Бело-розовая, почти без морщин, кожа, минимум седины, прекрасные серо-зеленые глаза, чуть заметно косящие, что создавало особую пикантность – всем бы так сохраниться в эдаком-то возрасте. Впрочем, Елену Францевну едва ли занимала сейчас собственная внешность. Рассеянным кивком ответив на приветствие Кусмауля, она, не отвлекаясь на светские условности (и это тоже было общим у нее с ним), заговорила сразу о деле: