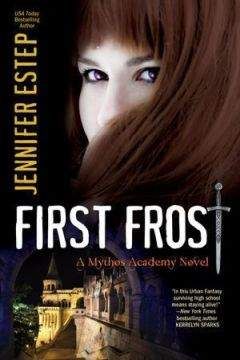В спальню вбежали Лукреция и Анна-Мария.
— Нет, нет, нет… — услышала я собственный голос, когда они остановились возле меня. — Мюэ, моя Мюэ…
Лукреция обняла меня. Анна-Мария заплакала. Услышав всхлипывания, я потянулась к ней, и мы рыдали в объятиях друг друга, словно дети.
В тот же день, после обеда, мы завернули Мюэ в мою шаль и отнесли в Тюильри, где садовники принялись долбить лопатами промерзшую почву. Мои руки дрожали, когда я прижимала к себе ее тельце, укутанное в самодельный саван; я никак не могла расстаться с ней, и Лукреции пришлось силой отбирать у меня мертвую Мюэ. Я отвернулась, глядя на свинцовое небо; ветер хлестал в лицо, и я слушала шорох земли, которой начали засыпать могилу.
— Прощай, Мюэ! — прошептала я.
И холодные слезы потекли по моему продрогшему, изборожденному заботами лицу.
Мне было пятьдесят семь лет. Смерть неизменно следовала за мной по пятам; я похоронила мужа и четверых детей, убила своего любовника и бесчисленное множество врагов, но эта малая утрата совсем подкосила меня.
Если бы смерть в этот день пришла за мной, я бы встретила ее с радостью.
Чтобы пересечь Францию, нам понадобилось три недели. Когда мы наконец въехали в засыпанный снегом внутренний двор замка в Нераке, наваррец ожидал нас.
Он не выехал нам навстречу, чтобы полюбоваться торжествами, которые устроили его подданные в честь нашего прибытия; не видел, с каким изумлением жители Наварры смотрели на Марго, которая восседала на своей кобылке, одетая в алое с золотой каймой платье и подбитый горностаевым мехом плащ. Я тем не менее знала, что Генриха Наваррского уже известили о том, какой шум вызвало ее появление, и он приветствовал нас сардонической усмешкой. На нем был неброский камзол из черной шерсти, мешковатые штаны едва доходили до колен. Он был все так же ладно скроен и плотно сбит; медно-рыжие вихры торчали во все стороны, словно разворошенная ветром солома, окладистая борода подчеркивала длинный нос. Марго он крепко поцеловал в губы, его зеленые глаза заискрились смехом. Она сморщилась. Наваррца нельзя было счесть непривлекательным, но я, даже стоя поодаль, уловила исходящий от него едкий запах мужского пота и поняла, почему Марго презирает мужа. Генрих явно не утруждал себя регулярным мытьем, в то время как Марго была истовой поборницей чистоты.
— Как я рад тебя видеть, дорогая, — промурлыкал он и окинул взглядом вереницу повозок с багажом, въезжавшую вслед за нами во двор. — Ты что, прихватила с собой весь Париж?
И, не дожидаясь ответа, повернулся ко мне с широкой улыбкой, словно мы не виделись всего лишь неделю.
— Тетушка Екатерина, добро пожаловать в мои скромные владения.
Я тотчас же приметила произошедшую в нем перемену. Наваррец мог притворяться безразличным, напуская на себя тот бесшабашный вид, который так привлекал парижских шлюх, но я почуяла в нем новообретенную уверенность в себе. Надежно укрывшись в своем горном королевстве, в окружении верных гугенотов, Генрих ощутил почву под ногами. Теперь уже не он, а я была гостьей при враждебном дворе.
— Сын мой, у тебя такой здоровый вид. — Я улыбнулась в ответ. — Здешний воздух явно идет тебе на пользу.
— Конечно! — хохотнул он. — Это ведь мой воздух. — И прибавил, взяв Марго за руку: — Прошу прощения — наш воздух, дорогая. Все, чем я владею, теперь и твое, моя королева. Пойдем, я приготовил для тебя покои. — Он помолчал. — Надеюсь, тебе там понравится. Боюсь, мне не под силу состязаться с роскошью Лувра.
— Этого я от тебя и не ожидала, — отозвалась Марго.
Она взяла Генриха под руку, и он повел ее в замок, предоставив мне плестись следом и подчеркнуто не замечать критических взглядов его гугенотских советников.
Разговоры о делах Генрих откладывал, ссылаясь на приближавшийся праздник Рождества. Желая показать Марго своим подданным, он устроил поездку по стране, и в пути нас щедро потчевали чесночной похлебкой и форелью из горных ручьев. Трясясь в носилках вслед за королевской четой, я разглядывала кряжистых селян, которые взирали на меня недоверчиво и с опаской. Протестанты до мозга костей, они видели во мне чудовищную «королеву-мать», вдохновительницу Варфоломеевской ночи, и некоторые доходили даже до того, что при виде меня соединяли два пальца в древнем знаке, оберегающем от сглаза.
Впрочем, меня мало интересовало отношение этих людей — куда занимательней было наблюдать их отношения с Генрихом. Можно было не сомневаться, что они любят своего короля. Куда бы он ни пошел, вокруг неизменно собирались подданные, и Наварра, не выказывая никаких опасений за свою жизнь, терпеливо уделял время каждому и внимательно выслушивал жалобы. Было очевидно, что он, покинув Францию, без устали трудился над тем, чтобы сменить жалкое обличье вероотступника на возвышенный облик несгибаемого монарха, поскольку отчетливо сознавал, что любовь и восхищение подданных суть наилучшая защита короля. Чувствуя угрызения совести, я тем не менее помимо воли сравнивала обходительные манеры наваррца с высокомерием, свойственным моему Генриху. В то время как мой сын вынужден был оберегаться от тех, кто мог причинить ему зло, наваррец оставался внешне беззаботен, и радость жизни, которую он излучал всем существом, неизменно воздействовала на окружающих. Даже Марго в присутствии мужа оттаяла и начала кокетничать, как в юности. Я не заметила пока ни единого признака, чтобы они разделяли ложе, однако, глядя, как Марго не сводит с него глаз, подозревала, что вскорости дойдет и до этого. Чем бы ни пахло от Генриха, Марго явно была им очарована, а когда она понесет дитя, наваррец окажется еще прочнее привязан к нам.
Между тем за всю свою жизнь я не могла припомнить более суровой зимы. Снег валил неделями, засыпав всю округу, и, покуда я, зябко ежась в стылых каменных стенах, грелась у огня, Генрих расхаживал по своей крепости в одной рубахе, словно в разгар лета. Его жизнерадостность и непринужденность вскоре начали действовать мне на нервы, поскольку он вел себя так, будто мы и впрямь явились к нему погостить по-родственному. Моя досада лишь усилилась, когда я получила известие, что Елизавета Тюдор наконец-то согласилась принять ухаживания Эркюля и Генрих отправил моего младшего сына в Англию на борту галеона, груженного подарками. Я злилась, что не смогла присутствовать при отплытии Эркюля, и беспокоилась о том, каково ему придется вдали от родного дома.
Марго, со своей стороны, вполне освоилась на новом месте. Как-то днем я пробудилась от послеобеденного сна, продрогшая и закоченевшая больше прежнего. Вдвоем с Лукрецией мы отправились поискать тепла в зал и там обнаружили мою дочь: стоя на голом полу, она раздавала указания небольшой армии слуг, сновавших туда и сюда с ящиками, гобеленами и разнообразной мебелью. Генрих, восседавший у камина в новеньком позолоченном кресле, вертел в руках кубок, и на губах его играла беззаботная усмешка.