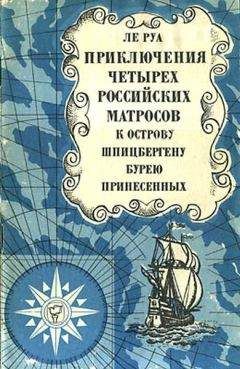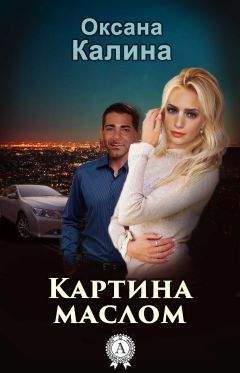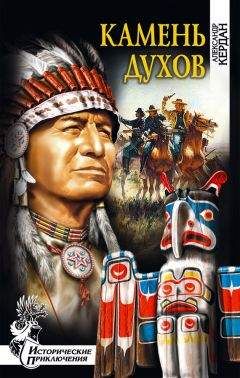Когда ее вновь окружили, она резко свистнула, и конь сразу же откликнулся на ее призыв. Его атака была для даков такой же неожиданной, как и ее собственная, и они попятились перед его взметнувшимся вверх туловищем и разящими копытами. Он мгновенно повернулся и выбежал из расступившегося круга людей. Эпона не успела вскочить на него; скрежеща зубами, она бежала рядом с ним, держась за его гриву. К ней тут же присоединился Дасадас; что-то крича, он подсадил ее плечом, она легла на седло, а вопящий скиф уселся сзади нее, прикрывая ее своим телом. Быстро оправившись от смятения, даки кинулись за ними, меча на ходу свои копья, но у пеших воинов не было никаких шансов догнать быстроногого скакуна.
Что-то – видимо, копье – вонзилось в тело Дасадаса, он глухо застонал, но удержался на лошади. Опустив голову и прижав уши к голове, серый стремительно мчался прочь от преследователей, одновременно стремясь догнать молодого жеребца, убежавшего с его кобылами. Как его обучали, он остался со своей наездницей, прикованный к ней незримой цепью, и как только она очутилась на его спине, его ничто уже не могло удержать. Мысль о том, что соперник увел его кобыл, вытеснила все остальные.
Серый несся с такой скоростью, что даки быстро оказались далеко позади еле различимыми черными точками, только тогда наконец Эпона смогла подхватить развевающиеся поводья; ей стоило большого труда заставить серого коня хоть немного замедлить свой бег. Дасадас сидел, обнимая ее руками, навалившись на нее всем телом, а его голова билась о ее спину. Сама она чувствовала ужасную раздирающую боль в животе, перед глазами ее плясали пятна света, но она не сдавалась: пока они все не будут в безопасности, надо держать себя в руках.
Они подъехали к густому подлеску. Эпоне удалось остановить жеребца, затем направить его в лес. И все это время он громко ржал, призывая своих кобыл.
Она соскользнула со спины коня и крепко привязала его к дереву, затем бессильно опустилась наземь, испытывая сильное головокружение и недомогание. Дасадас полулежал на хребте коня, и когда тот беспокойно задергался и заплясал, стараясь оборвать привязь, скиф с глухим стуком, словно куль с мукой, повалился вниз.
Эпона подползла к нему. В его боку зияла рваная рана, откуда торчал обломок копья. Эпона слышала, как что-то клокочет в его груди, и видела, как в его открытом рту вздувались и лопались кровавые пузыри.
– Дасадас, Дасадас!
Он чуть приоткрыл глаза, но у нее было такое впечатление, будто он ее не видит.
Боль в животе, и без того резкая, еще усилилась и распространилась на спину, казалось, будто кто-то сжимает ее могучими руками. Дасадас облизывал иссохшие губы, причмокивал, видимо, прося воды. Она припала к Земле-Матери. Только к ней и могла обратиться измученная Эпона, только это ей и оставалось. Она вдруг почувствовала еще большую усталость. Она прижала лицо к земле, вдыхая запах грязи, моха и мертвых листьев, и стала ждать.
И силы начали понемногу к ней возвращаться.
Наконец она смогла подняться на четвереньки, а затем, вся дрожа, и на ноги. И тут услышала отдаленное журчание какого-то ручья. У маленького ледяного ручья она опустилась на колени и стала ополаскивать лицо, пока не почувствовала себя лучше. Затем она вымочила подол своего старого шерстяного кельтского платья и, вернувшись к Дасадасу, выжала воду в его открытый рот. Она решила, что, когда чуточку окрепнет, наполнит водой пустой бурдюк, висящий на боку жеребца, и они отправятся на поиски остальных лошадей.
Если Дасадас сможет ехать…
«Ты перейдешь в другую жизнь, захлебнувшись собственной кровью на берегу мутной реки», – однажды предсказал ей Кернуннос.
Дасадас был, несомненно, тяжело ранен, но Эпона даже не знала, как лечить такие раны. Она поискала тысячелистник, чтобы приложить его к ране, но так и не нашла.
Она положила руки на его тело и, сосредоточившись, попыталась помочь ему своим духом, но не ощутила в нем ожидаемого прилива сил.
«Мой дар не распространяется на людей, – печально вздохнула она. – Только на животных».
И тут боль пронзила ее с такой неистовой силой, что она скорчилась в три погибели, позабыв обо всем на свете, видя лишь кружащиеся звезды и ощущая жаркую, душную тьму.
Открыла глаза она уже в предутренних сумерках; ее голова покоилась на коленях Дасадаса. Скиф нашел в себе силы упереться спиной о ствол высохшего дерева, он смотрел на нее с глубоким состраданием.
– Мы ранены, Эпона, – с трудом выдавил он.
– Ранен только ты… А у меня… я думаю, что у меня начинаются роды, Дасадас.
Его глаза широко распахнулись.
– Здесь? Сейчас? Но Дасадас не может тебе помочь. Слишком слаб… – Он закашлялся, словно в подтверждение своих слов. – Дасадас не знает, как принимать роды.
– Этого мужчинам и не надо знать, – сказала ему Эпона.
Как жаль, что с ней нет гутуитеры, которая держала бы ее за руки, успокаивала, пела приветственную песнь новому духу, а она, Эпона, в ожидании появления ребенка, стояла бы на корточках, в наиболее удобной позе. А когда роды окончились бы, гутуитера помогла бы ей лечь, положила нагого, окровавленного младенца на ее материнский живот. С помощью искусной друидки ей, может быть, удалось бы спасти жизнь ее малыша.
Но никакой друидки рядом не было: ни Нематоны с ее травами, ни Уиски с ее тихим голосом. Были только боль и головокружение, да еще она слышала, как ворочается Дасадас, пытаясь преодолеть собственную беспомощность.
Когда все было кончено и мертвый сын Кажака, родившийся слишком рано, чтобы выжить, лежал возле нее на груди Матери-Земли, глядя на него, Эпона рыдала так горько, как никогда еще не рыдала в своей жизни.
Дасадас вернулся к дереву, где он сидел, и спрятал свое лицо в полусогнутую руку. Серый жеребец, обеспокоенный запахом крови, бил копытами и думал о сбежавших кобылах.
Они погребли ребенка у подножия старого дуба. Эпона возвратила маленькую искорку в великий огонь, нашептывая слова, обычно сопровождающие переход в другой мир. В память умершего младенца Дасадас совершил принятый у скифов обряд: рассек себе кинжалом руки и мочки ушей, и хотя в его ослабленном состоянии нельзя было терять кровь, Эпона не осудила его за это.
Она знала, что в случившемся он винит самого себя. Вновь и вновь обращал он к себе горькие упреки:
– Дасадас сражался недостаточно хорошо, не смог уберечь Эпону.
Переполненная так и не излитым собственным горем, Эпона все же пыталась успокоить его.
Но нельзя было забывать и о даках.
– Они скоро будут здесь, – сказал Дасадас. – Они отыщут нас по следам копыт; они непременно хотят захватить тебя, Эпона. Мы должны ехать.