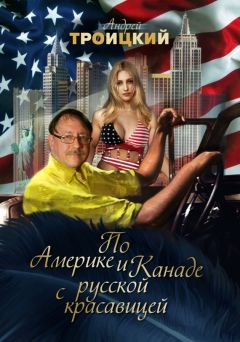Рассказ отшельника привел меня в восхищение, я понял превосходство оседлой трудовой жизни над кочевым и праздным существованием.
Нет, Рене, я не ропщу на провидение, но не скрою, что горько сетую в душе всякий раз, когда вспоминаю об этом поистине евангельском сообществе. Как был бы я счастлив, если бы Атала поселилась со мной в хижине на тех берегах! Там кончились бы мои скитания, там, никому не ведомый, обретя жену и скрывая свое счастье в глуши лесов, я уподобился бы одной из рек, что протекают по девственному краю, не имея даже названия! Но вместо мирного бытия, которое я уже дерзал считать как бы дарованным мне, сколько страшных бед подстерегало меня! Игралище судьбы, я терпел кораблекрушение, к какому бы берегу ни направил свое суденышко, я влачил долгие дни на чужбине, а когда вернулся в родной край, то нашел только развалившуюся хижину и могилы друзей; таков был удел Шактаса.
Мои мечты о счастье были столь же недолговечны, сколь радужны, и развеялись они уже у входа в пещеру. Меня поразило, что Атала не выбежала нам навстречу, хотя утро давно миновало. Непонятный ужас внезапно сжал мне сердце. Я стоял перед пещерой и не смел позвать дочь Лопеса, равно страшась и отзыва, и молчания. В пещере было темно, и это еще усиливало мой страх. «Тебе сопутствует и помогает небо, войди же первый в этот непроглядный мрак», — попросил я отшельника.
Как слабодушен тот, кем владеют страсти! Сколько сил у того, кто вверяет себя Богу! В сердце отца Обри, изглоданном семидесятью годами, но полном благочестия, было больше мужества, чем в моем, пылком и юном. Миролюбец вошел в пещеру, а я, охваченный страхом, остался у входа. Потом из глубины скалистой обители до меня донесся шепот, похожий на невнятную жалобу. Силы вернулись ко мне, я громко вскрикнул и ринулся во тьму пещеры. Только вам, духи моих праотцев, ведомо, как я был потрясен тем, что увидел!
Старец зажег смолистый факел и дрожащей рукой держал над постелью, где лежала Атала. Она приподнялась на локте, всклокоченная, без кровинки в лице, она, такая молодая и прекрасная! На лбу блестели крупные капли пота, потускневшие глаза все еще пытались сказать мне о любви, губы силились улыбнуться. Я прирос к земле, словно, пораженный ударом грома, и, приоткрыв рот, протянув руки, неотрывно смотрел на нее. Несколько мгновений все три участника этой скорбной сцены безмолвствовали. Первый заговорил отшельник. «Должно быть, это лихорадка, вызванная усталостью, и, если мы вверимся воле Бога, он смилуется над нами».
Едва прозвучали эти слова, как застывшая было кровь вновь заструилась по моим жилам и с переменчивостью, свойственной дикарям, я от беспредельного страха перешел к беспредельной надежде. Но Атала тут же ее разбила. Грустно покачав головой, она жестом подозвала нас к себе.
«Отец мой, — обратилась она к священнику, — я уже на пороге смерти… Шактас, постарайся спокойно выслушать печальную тайну… Я хранила ее, чтобы и тебя пощадить, и веление матери не нарушить. Не прерывай меня горестными восклицаниями, они сократят и без того недолгие миги моей жизни. Мне многое нужно рассказать, а сердце бьется все медленнее… на грудь все сильнее давит какая-то ледяная тяжесть… чувствую, мне надо спешить…»
Помолчав, Атала продолжала:
«Безрадостный мой жребий был решен еще до моего рождения. Я была плодом несчастья моей матери, она вынашивала меня в горести и родила в таких муках, что казалось, я не жилица на свете. Чтобы спасти новорожденную, мать дала обет: она поклялась, что если я останусь в живых, то сохраню целомудрие и посвящу себе Царице Небесной… Роковой обет! Из-за него я гибну…
На шестнадцатом году я осиротела. За несколько часов до смерти мать призвала меня к себе. „Дочь моя, — сказала она в присутствии миссионера, который старался облегчить ей расставание с жизнью, — дочь моя, ты знаешь, какой обет я дала. Дерзнешь ли ты превратить меня в клятвопреступницу? Я покидаю тебя, моя Атала, среди людей, недостойных христианки, среди язычников, которые преследуют Бога твоего отца и твоей матери, Бога, даровавшего тебе жизнь и сотворившего чудо, чтобы ее сохранить. Дорогое мое дитя, отказавшись от брака, ты откажешься всего-навсего от бремени семейных невзгод и от пагубных страстей, разбивших сердце твоей матери. Подойди же ко мне, ненаглядная моя, и поклянись на образе Божьей Матери, который держит сейчас перед тобою этот святой человек и твоя умирающая мать, поклянись перед лицом неба, что не нарушишь моего обета. Всегда помни, что я дала его ради спасения твоей жизни и что, преступив мою клятву, ты ввергнешь душу матери в вековечные мучения“.
О моя мать, зачем ты вела такие речи? О моя вера, в тебе мое горе и счастье, ты и губишь меня, и утешаешь! А ты, бесценный и злополучный Шактас, любимый мною так горячо, что эта любовь терзает меня и в объятиях смерти, теперь ты понимаешь, почему наш удел так жесток. Заливаясь слезами, я припала к материнской груди и поклялась исполнить Все, что от меня требовали. Миссионер произнес грозные слова и дал мне нарамник; теперь я была связана до конца жизни. Мать пригрозила мне проклятием, если я посмею нарушить обет, и, наказав хранить его в тайне от язычников, гонителей нашей веры, испустила дух, сжимая меня в объятиях.
Сперва я не понимала, какую дала опасную клятву. Я была ревностной христианкой, гордилась испанской кровью, которая текла в моих жилах, считала всех, кого видела вокруг себя, недостойными моей руки, и не могла нарадоваться, что единственным своим супругом избрала Бога моей матери. Потом появился ты, юный и прекрасный пленник, твоя судьба опечалила меня, я осмелилась заговорить с тобой у лесного костра и вот тогда почувствовала всю тяжесть своего обета».
Не успела Атала произнести эти слова, как, сжав кулаки и злобно глядя на миссионера, я закричал: «Так вот какова она, твоя хваленая вера! Будь проклят обет, который отнимает у меня Атала! Будь проклят Бог, который смеет идти против природы! Зачем ты явился в наши леса, человек, проповедующий эту веру?»
«Чтобы спасти тебя! — голос старца был словно раскат грома. — Чтобы укротить твои страсти и отвести гнев Господень от богохульника! Как пристало сетовать на невзгоды тебе, зеленому юнцу, едва вступившему в жизнь! Но где они, следы твоих страданий? Какие несправедливости ты претерпел? Какими отличен добродетелями?.. А что, кроме них, дает хотя бы подобие права на сетования? Кому ты оказал помощь? Какие милосердные дела совершил? О жалкий человек, у тебя только и есть что твои страсти, и ты еще смеешь корить небо! Если бы тебе пришлось, как отцу Обри, тридцать лет прожить в горах, вдали от родины, ты не был бы так скор на осуждение Господнего промысла, ты понял бы тогда, что ничего не знаешь, ничего не стоишь, что нет кары столь суровой, горестей столь тяжких, которых не заслужила бы людская порочная плоть!»