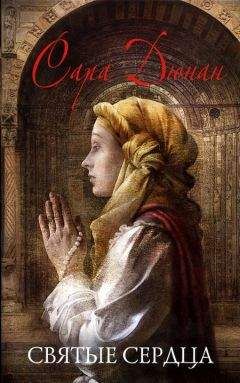Конечно, она ничего ей не ответила. Расспросы даже доставили ей некоторое удовольствие: значит, ее безумства прошлой ночью были небесполезны, поскольку аббатиса явно волнуется, не подсунули ли ей фальшивку. Вообще-то, отмалчиваясь, она даже почувствовала себя лучше. А если и открывала рот, то лишь для того, чтобы осипшим от крика голосом повторить ту же фразу, которую уже сказала сороке-травнице прошлой ночью: «Слова шли из моих уст, не от сердца».
Аббатиса рассердилась, когда поняла, что она не хочет говорить. Но не показала, по крайней мере, открыто. Вместо этого она прикинулась благочестивой и стала разглагольствовать о том, какой занятой человек епископ, сколько у него важных дел и какой это будет скандал для семьи… Но она скоро перестала слушать, а вместо этого начала развлекаться тем, что пела про себя песенки, пока аббатиса, разозлившись окончательно, не отослала ее внезапно прочь. И хотя от усилий, которые она прилагала к тому, чтобы слушать, а вернее, не слушать, у нее разболелась голова, она была очень собой довольна. Ведь она пробыла в этой вонючей тюрьме целых двадцать четыре часа, которые ни на грамм не уменьшили ее решимость.
И теперь, шагая по галереям на встречу со вчерашней сорокой — до чего холодны каменные стены вокруг, прямо как в склепе, — впервые за весь день наедине со своими мыслями, она обещает себе, что не будет больше бояться и сходить с ума, а постарается обратить себе на пользу не только свою сообразительность, но и страх. И все же, говоря это себе, она чувствует, как ее внутренности обжигает такая смесь ужаса и ярости, что она боится сгореть заживо прежде, чем снова увидит белый свет.
Нет-нет, ей нельзя здесь оставаться. Ни за что. Ждать целый год, прежде чем кто-нибудь хотя бы выслушает ее! Еще триста шестьдесят четыре дня постоянных тычков, любопытства и бесконечных молитв. Да она умрет, даже если ее решимость останется при ней. Нет, она должна отсюда выбраться. И пусть в отцовском доме разразится скандал, она все равно убежит. В конце концов, он тоже виноват. Он обманул ее, запер, предал. Он ей больше не отец, а она ему — не дочь. Только теперь волна страха захлестывает ее, достигает желудка, и она останавливается, чтобы сплюнуть желчь, которая потекла ей в рот.
Ну и пусть, зато он не оставит ее гнить здесь заживо. Не оставит. Она это знает. Знает так же твердо, как то, что завтра встанет солнце, только в этом дурацком городе вечно туман да тучи, так что восход можно и не заметить. Нет, он ее не забудет. Он найдет ее так или иначе, найдет, как и обещал. А она тем временем будет готовиться и ждать и, что бы ни случилось, не позволит сжигающему ее пламени взять над собой верх.
Конечно, Зуану связывает обет покорности, но именно память о горе, которое она сама испытывала в первые дни в монастыре, заставляет ее терпеливо и по-доброму отнестись к девушке, когда та приходит к ней днем.
Последствия приема снадобья очевидны. Вчерашний гнев и ярость сегодня сменились угрюмым молчанием. Тот, кто одевал ее утром, слишком туго затянул головную повязку, и на лбу и щеках девушки, там, где накрахмаленная ткань врезалась в кожу, видны красные отпечатки. Когда действие наркотика пройдет, у нее заболит еще и голова, а не только сердце.
Ее глаза настолько лишены всякого выражения, что Зуана даже сомневается, помнит ли она ее.
— Господь да пребудет с тобой, послушница Серафина.
— И с тобой, сестра Тюремщица.
Ага, значит, помнит. Тюремщица. Она сама подсказала ей это слово вчера ночью, но в устах послушницы оно звучит обидно. И девушка это знает.
— Как ты себя сегодня чувствуешь?
— Как собака после тухлого мяса, — отвечает она сиплым и шершавым голосом.
— Ничего, скоро пройдет. Мадонна Чиара просила, чтобы я показала тебе монастырь. Тебе не очень плохо? Свежий воздух может помочь.
Девушка пожимает плечами.
— Очень хорошо. Держи. — Она дает ей плащ. — Погода сегодня не самая приятная.
Снаружи легкий туман окутывает галереи серым покрывалом, и на ходу они выдыхают струйки пара. Зуана часто думает, что отцам, которым непременно нужно отдавать дочерей в монастырь против их воли, следовало бы выбирать для этого месяцы потеплее. Будь сейчас лето, они задержались бы в саду, где разломили бы парочку спелых гранатов, или помешкали бы у пруда с карпами, чтобы посмотреть, как блеснет на солнце чешуя метнувшейся рыбы. Но, как известно всякому уроженцу Феррары, этот город славен своими зимними туманами, которые пробирают до костей, и потому Зуана предпочитает шагать быстро и выбирать маршрут покороче.
Из величественной главной галереи коротким коридором они попадают в другую, поменьше. Встречают пожилую сестру, которая энергично шагает впереди стайки девочек восьми-девяти лет, семенящих за ней, точно утята за уткой. Одна из них с явным любопытством смотрит на послушницу, но, поймав взгляд Зуаны, опускает глаза. Среди пансионерок Санта-Катерины есть те, которые подрастают здесь для замужества, и те, кому предстоит остаться в монастыре навсегда. И их не всегда легко отличить одну от другой, думает Зуана. Все же, будь новенькая уроженкой Феррары, грамоте и катехизису она, скорее всего, обучалась бы здесь, и сейчас им всем было бы проще.
Вторая галерея куда скромнее и древнее первой, в щели меж каменными плитами двора пробивается трава, кирпичные колонны местами облуплены. Однако жизни здесь значительно больше. Второй этаж по обе стороны двора занимают расположенные над кухнями, пекарней и прачечной общие спальни, где живет обслуга, сестры-прислужницы, а несколько келий напротив занимают беднейшие монахини хора, с плохоньким приданым. Зуана с любопытством отмечает, что девушка рядом с ней явно заинтересована, ее глаза так и рыскают по сторонам. В воздухе пахнет мясной подливой и жареной капустой, звенят горшки и кастрюли. Зимой из-за кухонного жара здесь почти приятно, но с первой же оттепелью наступает ад, в котором нет спасения от духоты ни днем ни ночью. Тощая пятнистая кошка развалилась на пороге пекарни, с полдюжины слепых котят, пища и отталкивая друг друга, тычутся в ее брюхо в поисках соска. Заведующая кухнями сестра Федерика считает прямым оскорблением Господу положить хотя бы одну лишнюю ложку еды в любую тарелку, но, когда дело касается кормящих матерей — тех, которые не давали обета безбрачия, по крайней мере, — сердце ее тает.
Миновав двор, они ненадолго задерживаются в аптекарском огороде, где Зуана проверяет, не побил ли ее растения мороз, потом ведет послушницу дальше, мимо овощных грядок, мимо бойни и мясохранилища в загоны для скота, расположенные не настолько далеко от первых, чтобы туда не долетали звуки смерти.