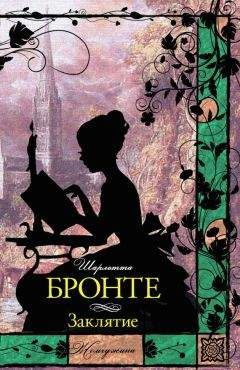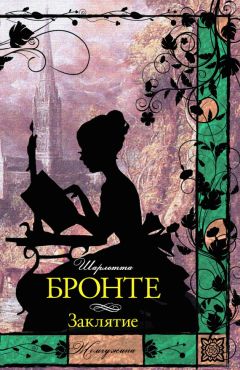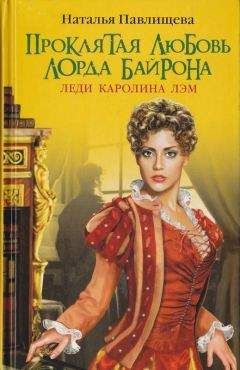– Хватит лицемерить и оправдываться! – воскликнула я. – Говорите прямо: это дети Заморны или нет?
Она нахмурилась, покраснела, пробежала пальцами по четкам, но ничего не ответила.
– Ха! – проговорила я. – Вы не смеете сказать «нет» – свидетельства неоспоримы. Достаточно взглянуть на их глаза!
И я, не выдержав напряжения чувств, разразилась слезами.
Дама усталым движением приложила руку ко лбу, тяжело вздохнула и села. Эрнест обратился ко мне:
– Не надо плакать. Мне вас очень жалко! Только почему вы так сердито говорите с матушкой? Вы ее огорчили. Папенька будет зол, если узнает, он никому не позволяет ее обижать. Она знатная дама, и вы бы ей понравились, если бы вели себя иначе.
– Да, – сказала маленькая Эмили, – вам надо подружиться. Приезжайте к нам в замок Оронсей. Попросите папеньку – он привезет вас в своей карете, когда поедет к нам.
– Конечно, привезет, – подхватил Эрнест. – Эмили совершенно права. Только учтите, леди, будь вы мужчиной и поговори вы с моей матушкой так, я бы вас возненавидел. И в замок Оронсей вы бы не могли приехать, потому что герцог, мой отец, – эти слова были произнесены с гордостью, – заколол бы вас в самое сердце.
Я заплакала еще сильнее. По щекам дамы тоже потекли слезы – полагаю, от счастья, что ее благородный сын вступился за мать. И тут на воду фонтана внезапно упала тень. Я стояла лицом к бассейну, спиной к роще: тень накрыла мое отражение и протянулась значительно дальше. Я поняла, что у меня за спиной кто-то есть, но кто? Кровь застыла в жилах, и по телу пробежал трепет, ибо голос, чьи музыкальные интонации я знала так хорошо, шепнул мне в ухо ответ на незаданный вопрос:
– Мэри, вы сегодня припозднились; солнце село четверть часа назад. Бога ради, поезжайте домой.
В следующий миг зашуршали листья; тень на воде пропала. Я обернулась: сзади никого не было, только с одной стороны зеленой дорожки раскачивались ветки, с другой сыпался на землю град розовых лепестков.
– Папа, папа! – закричал Эрнест и ринулся в ту сторону. Он исчез так же быстро, вызвав новый ливень порхающих листьев с потревоженных ветвей. Я не посмела за ним последовать. Оставалось лишь немедленно повиноваться. Низко поклонившись все еще плачущей сопернице – скорее из гордости, нежели из учтивости, – я вернулась к карете, села и приказала трогать.
На этом пока остановлюсь. Мой постскриптум и так уже получился вдвое длиннее письма.
До свидания, милая бабушка, никакие горести, никакие испытания не заставят меня Вас позабыть. Жду ответа,
Ваша и прочая, и прочая
М.Г. Уэлсли
Дорогая бабушка!
Я подхвачу нить повествования там, где ее бросила, и продолжу по порядку. Вернувшись в Уэллсли-Хаус после тайного визита на виллу Доуро, я немедленно удалилась в свои покои. Хаотическое смешение страхов, надежд и домыслов, наполнявшее мозг, делали меня совершенно негодной для какого бы то ни было общества. Кто эта дама? Вправду ли она жена Заморны, что практически явствовало из ее слов? Почему герцог исчез, сказав мне всего две фразы? Рассердился ли он на меня? Как вышло, что он не в Ангрии, а в Витропольской долине? И может ли он сегодня вернуться в город? Хватит ли у меня в таком случае духа потребовать объяснений? И даст ли он их? Такие вопросы я вновь и вновь задавала себе, но тщетно. Никто не мог дать ответа. Я вздыхала, плакала и почти жалела, что Заморна не остался для меня только мечтой, что мои грезы обернулись такой яркой и пугающей явью.
Одно сомнений не вызывало: мальчик и девочка, безусловно, дети герцога. Каждый взгляд, слово и жест маленького Эрнеста неопровержимо об этом свидетельствовали. Покуда я сидела в таких раздумьях, меня внезапно отвлек тихий вздох, раздавшийся, казалось, совсем рядом. Я торопливо оглядела комнату, почти ожидая увидеть герцога, хотя это не тот звук, какой обычно возвещает о его появлении. Лунный свет, льющийся сквозь незашторенные венецианские окна, наполнял помещение. Никого видно не было, и я вернулась бы к своим размышлениям, если бы кто-то не тронул мою руку, лежащую рядом с креслом на жардиньерке.
Боже! У меня сердце оборвалось от страха, ибо в тот же миг безобразная фигура Кунштюка с пронзительным стоном рухнула к моим ногам. Забыв, что он глухонемой, я спросила, как могла мягко, что ему нужно. Не могу сказать, что я испугалась: карлик всегда был со мною крайне почтителен и, входя, кланялся мне ниже восточного раба, я же в ответ защищала его от других слуг, ненавидящих беднягу за уродство. И все же несмотря на добрые отношения между нами, нарушаемые лишь странными вмешательствами, упомянутыми в прошлом письме, должна сознаться, что едва не позвонила в колокольчик, дабы не оставаться с ним наедине. Я уже встала с намерением это сделать, но тут он вскинул голову, отбросил всклокоченные волосы, так что лунное сияние озарило все чудовищно гипертрофированные черты его нечеловеческого лица, и уставился на меня с такой жалобной мольбой, что я не сумела устоять. Это было тем более трогательно, что обычно он угрюм, замкнут и злобен – по крайней мере так уверяют слуги, хотя со мною совсем иной. Я села и, гладя карлика по косматой голове, чтобы унять его непонятное волнение, повторила вопрос: на сей раз не словами, а с помощью жестов. На этом языке я могу разговаривать с ним довольно быстро, правда, обычным способом, а не так, как они с Заморной общаются по каким-то загадочным общим делам, когда мелькание пальцев исключает для стороннего наблюдателя возможность понять, о чем речь.
Последующий разговор был лаконичен, как телеграфная депеша.
Кунштюк (в ответ на мой первый вопрос). Нельзя было этого делать.
Я. О чем ты?
Кунштюк. О вашей поездке.
Я. Что будет?
Кунштюк. Опасность.
Я. Что герцог рассердится?
Кунштюк. Что герцог умрет.
Я (после паузы, немного придя в себя). Как это понимать?
Кунштюк. Так и понимать! Дело было настолько близко к свершению, что кара, хотя бы частичная, неизбежна.
Я. Не могу взять в толк, что ты говоришь.
Кунштюк. Может, вы и не понимаете, но это так. Не надо вам было ревновать. Зря вы поддались любопытству. Коли любовь Заморны принадлежит вам, важно ли, что она принадлежит не вам одной?
На это я воскликнула:
– Так она и вправду его жена!
Он не услышал моих слов, поэтому я, взяв себя в руки, повторила вопрос на языке жестов.
– Истинная правда, – был ответ. – Леди Оронсей и впрямь жена герцога.
Я ничего не могла сказать; мысли мешались, сердце помертвело. Сколько я пробыла в оцепенении, не чувствуя ничего, кроме нестерпимой боли, – не знаю. Наконец я вспомнила, что произошло, и принялась искать глазами Кунштюка, но он уже ушел. В голове роились тысячи вопросов, которые я хотела ему задать. Однако я понимала, что требовать его назад бессмысленно: он никогда не продолжает разговор, который считает оконченным.