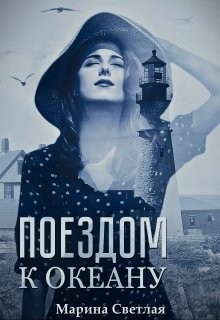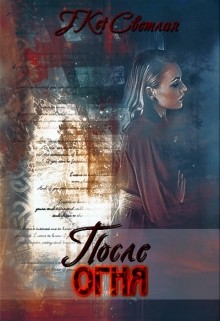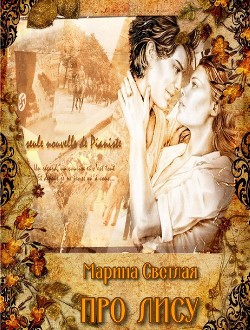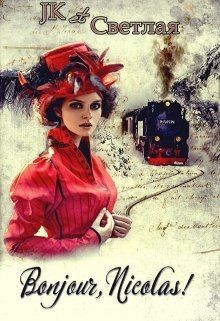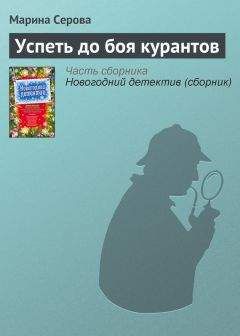Домой он добирался пешком, чтобы хоть немного выветрился алкоголь, и пришел уже поздно ночью. Аньес ожидаемо не спала. Она никогда не спала, если его не бывало рядом. И сейчас сидела в темноте, не смея включать свет в комнатах — Анри не велел. В доме, чтобы никто ничего не заподозрил, в его отсутствие было мертво и тихо.
И лишь Аньес в новом приступе головных болей тихой мышкой сидела в кресле у окна и курила. Единственный свет, что был в комнате, — на кончике ее сигареты. Когда он зажег электричество, она поморщилась, от того, как то ударило по глазам и, привыкая, терла уголки век указательным и большим пальцами свободной руки. В другой был мундштук. И Юберу она показалась ужасно замученной и столь же великолепной. Он хотел ее каждый час этих ужасных дней, словно тело его понимало, что нужно нахотеться впрок. И получить все, что можно, потому что потом не будет.
Но прямо сейчас он глядел на нее, а она, привыкнув к свету, на него, до конца понимая, что он пришел с новостями, и чувствуя одновременно и облегчение, что хоть какая-то веха пройдена, и сильнейшую боль.
— Ты не вскрывал? — удивилась Аньес, когда в ее руках оказался конверт, а Юбер — сидящим на корточках напротив нее и заглядывающим ей в лицо.
— Это же твоя жизнь, — пожал он плечами.
И она, медленно кивнув, принялась рвать пальцами бумагу, чтобы добраться до документов. Долго смотрела на паспорт, на фото в нем, на имя, которое ей предстоит носить до конца ее дней. Еще дольше — на разложенные на собственных коленях билеты в Алжир, разрешение на въезд в Югославию. Сосредоточенно и устало, пока не нашла в себе силы сказать:
— Сейчас не лучшее время ехать туда…
— Я знаю, но выбирать между социалистическими странами не приходится.
— А что? — Аньес негромко рассмеялась. — Ты прав. По крайней мере, мне будет чем заняться. Разверну там подпольную деятельность, буду бороться с Тито и распространять антиправительственные листовки. Выйду на связь с советской разведкой. Столько всего можно придумать, если захочется.
— Ты решила развалить Югославию? Французского союза тебе мало? — хохотнул Юбер и, обхватив руками ее колени, уткнулся в них лбом и прижался к ним крепко-крепко, как когда-то ребенком мог жаться к ногам своей мами́.
— Ну я же не могу позволить им сближаться с западом, это ослабляет позиции СССР и коммунистов в Европе.
— Ты слишком умна для бабы. И слишком до многого тебе есть дело.
— А ты сын булочника, которого я люблю. Ты ведь не станешь этого забывать?
— Нет. Не стану.
Он помолчал, затем поднялся с пола, пройдя к столику, на котором валялись ее портсигар и зажигалка. Закурил. Она молчала еще некоторое время. А когда собралась с духом, негромко произнесла:
— Анн Гийо… Гийо… знакомая фамилия… Я могу ее знать?
— Возможно. Это девичья фамилия моей матери, Аньес. Единственное имя, которое я могу дать тебе сейчас, раз мое уже не получится. Пожалуйста, постарайся не запятнать хотя бы его.
Она вскинула голову, вперившись прямо в его взгляд, и только так поняла, что он и правда пьян. И еще ему очень больно, а он даже не пытается это скрыть. Он беззащитнее ее. И еще он — основа ее мира.
Юбер ушел, не говоря больше ни слова, и она осталась одна, не сумев ему ничего ответить. Некоторое время она еще глядела ему вслед, но очнувшись, встала с кресла, понимая, что он продолжит пить, а она не даст ему доконать себя. Им отведено слишком мало времени. Им всегда и всего было слишком мало.
Несколько минут она так и стояла, замерев. Потом подошла к телефону. Ей нужно было сделать звонок. Один-единственный по тому номеру, который когда-то обещал оставить ей Ксавье и который она действительно нашла несколько месяцев спустя в своем почтовом ящике. Она никогда не знала, кто ей ответит. Она никогда не пробовала звонить. Вероятно, она и сейчас не стала бы, но, Господи… если Юбер будет уверен, что она прибыла в Югославию, добра из этого не выйдет.
Сколько он выдержит, не сорвавшись к ней?
А сколько выдержит она?
Ведь и она тоже будет ждать, что он сорвется. Ждать и надеяться, откладывая все до того момента, как он решится сделать то, чего нельзя.
И потому рвать нужно не Лионца, а нити. Женевьева Прево никогда не позволяла держать в доме испорченных предметов. Не станет и Аньес.
Аньес.
Анн.
Анн Гийо, которой ей предстоит стать, и которая с благодарностью примет дарованное ей имя и никогда не запятнает его.
Разговор получился кратким. На том конце оказалась женщина. Аньес лишь произнесла заветное «Ксавье, 13.55» и сообщила, в какой день будет в Боне.
«Чего вы хотите?» — спросили ее, чуть замешкавшись.
«Исчезнуть», — ответила Аньес, потому что это было единственно правильное, что ей теперь оставалось. После у нее хватило сил повесить трубку. И еще — не сорвать ее снова, чтобы набрать номер в реннской квартире, где сейчас была ее мама и где был ее мальчик, потому что если бы она поддалась порыву и сделала это, то решимость ее поколебалась бы. Пусть лучше так. У мамы останется внук. Внука она сохранит. Думать еще и о Робере Аньес себе запретила. Он забудет ее. Сейчас ему это несложно. Слишком он маленький.
Она собрала документы и спрятала их назад в конверт. Унесла с собой, чтобы позднее сложить в сумочку. А потом направилась на поиски Анри.
Аньес нашла его в кабинете, где он и правда держал в руках полный стакан бренди и стоял у окна. Здесь океана не видно, и он смотрел на поселок, сонно мерцающий огнями. Еще здесь было прохладно — потому что Юбер распахнул створку. Аньес подошла к нему и обняла со спины. В комнату врывалась ночь. А она, которая только училась ходить по земле, эту ночь к нему не хотела подпускать.
— Я много думала над тем, что тогда сказала, — проговорила Аньес. — О немцах и о тебе. И о нацизме, и о Вьетнаме… Помнишь?
— Не хотел бы помнить, но не получается, — отстраненно и тихо прозвучал его голос.
— Я ошибалась. Я бы взяла свои слова назад, но уже никак.
— С чего вдруг?
— Мне вспомнился Ван Тай…
— И с этим господином ты тоже была на короткой ноге? — рассмеялся Юбер, и плечи его под ее руками затряслись. Она лишь прижалась крепче, теперь еще и щекой, прикрывая глаза и не зная, успокаивает его это или наоборот сердит.
— Он оставил мне жизнь. Он оставил, ты спас. Я не умею забывать ни доброго, ни дурного. Но ведь и ты так же — не умеешь.
— И что же он сказал тогда, этот твой благородный повстанец?
— Он бросил деревню вам на растерзание, уводя бойцов. Помнишь? Он бросил своих, говоря, что вы не нацисты, вы не казните целое поселение за помощь восставшим. Я ему не верила, и я ошиблась. Не знаю, что я думала тогда, я ненавидела вас за то, что вы расстреливали его солдат, и не понимала… почти не понимала того, что он оказался прав. Тех, кто жили в деревне, ты не тронул.
— И что из этого следует?
— Что вьетнамец относился к тебе лучше, чем тогда относилась я.
— Лестно.
— Ты простудишься, Анри. Здесь холодно. Идем спать?
Она почувствовала, как он поднес руку со стаканом к губам. Отхлебнул немного и устало сказал:
— После ранения эскулапы в один голос твердили, что мне пневмонию подхватить будет проще, чем насморк. Легкие повреждены, надо беречься. Я сейчас вспомнил, что с тех пор и не болел ни разу. До того — сколько угодно, а после — нет. Как думаешь, когда везение закончится?
— У тебя все будет хорошо.
— А у тебя?
— А меня не будет. Будет Анн Гийо.
Юбер медленно обернулся к ней. Глаза его в темноте блестели, как блестит на дне колодца черная-черная вода.
— Учти, милая, если что-нибудь с тобой случится, я это сразу же буду знать. Я почувствую. Мне больно будет здесь, в этой дырке, — он взял ее ладонь и положил себе на грудь, где под тканью рубашки чувствовалась бугристая поверхность шрама.
— Хорошо. Я вспомню, что тебе больно, и постараюсь, чтобы ничего не случилось. Идем со мной. Тебе правда лучше лечь.