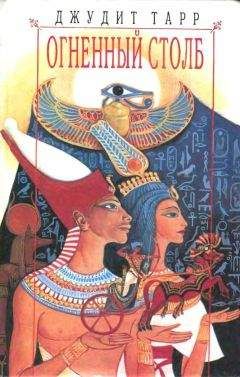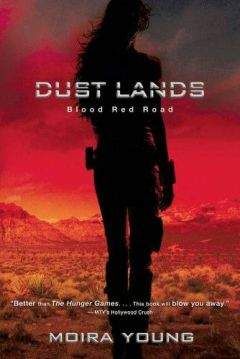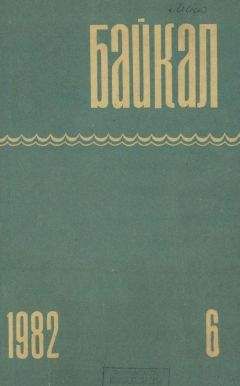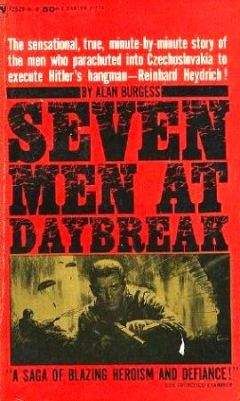— Посмотри на себя! — сказала она. — Всех нас уже коснулись годы. В моих волосах появляется седина, груди начинают обвисать, а кости по утрам ноют. А ты едва ли стала хоть на день старше с тех пор, как была девочкой. Ты такая же стройная, волосы у тебя такие же черные, на лице не прибавилось ни морщинки. И ты — ты — хочешь умереть. Почему? Какая от этого польза? Разве что труп получится красивый?
— А зачем мне жить? — спросила Мириам, выбравшись из своих одеял.
Поразительно, сколько жизни сейчас было в ее лице.
— Я думала, у тебя есть твой бог и твои пророчества. А если этого недостаточно, у тебя есть отец.
— Моему отцу я не нужна. У него есть сыновья.
— Так ты ревнуешь?
Мириам гневно взглянула на нее.
— Я рада за него. Но зачем нужна я, последняя из его дочерей, если у него есть мальчики, помогающие ему быть уверенным в себе?
— Но ты старшая из оставшихся в живых, и знаешь его лучше всех. Ты достаточно сильно любила его, чтобы позволить ему умереть для Египта. И не меньше порадовала его, придя к нему в Синай.
— Когда он ушел, я отказалась от него и вернула старых богов. А теперь? Чем же я порадую его — горькая, чье лицо может испортить любой праздник?
— Ты ясноглазая пророчица, зеркало его бога.
— Ты говоришь совсем как Леа.
Нофрет моргнула.
— Она бесконечно издевалась надо мной, — сказала Мириам. — Ругала меня, корила меня, объясняла мне, что я просто дурочка, переполненная жалостью к себе и расточающая дары бога. Она говорила, что мне многое дано. Но я никогда не понимала это. Наверное, в конце концов она исполнилась ко мне презрения.
— Вряд ли. Ведь она сделала тебя своей преемницей.
Губы Мириам скривились.
— Она отомстила мне за мое непослушание.
— Не думаю.
— Можешь думать все, что тебе угодно.
— Спасибо, ваше величество, — сказала Нофрет.
Мириам с недоверием разглядывала ее, даже забыв рассердиться.
— Неужели ты никогда не простишь меня, — спросила она наконец, — за то, что я была твоей царицей?
— Никогда!
Мириам задумалась: ее темные глаза, казалось, были устремлены в себя. Немного погодя она кивнула в знак согласия и улеглась, отвернувшись от Нофрет и закутавшись в одеяла.
Нофрет не могла разобраться в своих чувствах. Это не было удовлетворением, нет. И, конечно, не сожалением. Ей приходилось видеть, как вскрывают застарелые раны и из них течет гной, пока не покажется чистая кровь. После этого раненые выздоравливают — если только помощь приходит не слишком поздно, но и тогда они, по крайней мере, умирают более легкой смертью, чем если бы были предоставлены самим себе.
Она надеялась, что правда не убьет Мириам, что та выздоровеет, хотя бы отчасти. Ее рана старая и очень глубокая, такая глубокая, что сверху заросла, а в глубине продолжала болеть.
Вероятно, Нофрет тоже была ранена; годами и пренебрежением, гнетом и старыми обидами. Мириам попала в больное место, когда заговорила о прощении за то, что она была хозяйкой Нофрет, держала ее в рабстве и не отпустила на свободу.
Египет исцелит их обеих, а может быть, убьет. Сейчас Нофрет было безразлично, что именно случится.
Древний Мемфис со времен царя Тутанхамона мало изменился, разве что стены стали побелее, заново очищенные при новом царе. Великих гробниц на западной окраине время, казалось, не коснулось. И, конечно, имя, вырезанное на стенах и написанное в указах, было другим: не Небхеперура Тутанхамон, как когда-то, но имя недавно коронованного Менпетира Рамзеса, который состоял при Хоремхебе главным советником.
У Хоремхеба не было сына, не было наследника. Возможно, так боги покарали человека, научившего Египет тому, что царя, как и любого смертного, можно убить для чьей-то пользы. Он получил вожделенным трон, но не оставил сына, который занял бы этот трон после его смерти. Ему пришлось, как и Аи, как самому Тутанхамону, оставить его человеку, который — как всем было известно — желал ему столько же зла, сколько сам Хоремхеб желал Сменхкаре и Тутанхамону.
Нофрет с облегчением вздохнула, когда Мириам прочитала имя в картуше на новом камне, установленном перед воротами Мемфиса. Она не верила, что Хоремхеб скончался. Весть о его смерти разнеслась по торговым путям, как и весть о том, что в Двух Царствах пришла к власти новая линия, линия, не получавшая права на царство от дочерей Нефертари. Хоремхеб все же подчинился старому закону. Рамзес отбросил его. Насколько было известно, в Египте не осталось живых потомков Нефертари. Царю Египта пришлось отказаться от старой линии и начать новую со своего сына. Боги Египта, казалось, смотрели на своего нового Гора с одобрением. Лица людей были радостными, чего Нофрет прежде не замечала, и беззаботными, как будто огромный груз свалился с их плеч. При этом новом царе древний мир обновился.
Нофрет вспомнилось очень многое, когда она проходила под воротами, стараясь опасливо не коситься на скучающих стражников, вооруженных копьями.
Послы принимались по особой церемонии, даже посольство дикарей из пустыни. Лица придворной челяди красноречиво выражали презрение, губы были поджаты, они воротили носы, как будто от запаха коз. Апиру в лучших нарядах, тщательно вымывшись на постоялом дворе, причесанные, надушенные благовониями, задрали носы еще выше и вступили во дворец, преисполненные необычайного величия.
Ни один нос не может быть горделивей, чем нос апиру, разве что хеттский. Они посрамили египтян, и тем пришлось сдаться. Не то чтобы их манеры смягчились, но они стали вести себя куда уважительнее.
Агарон говорил от лица своего народа на безупречном египетском языке с царственным фиванским выговором. Придворные были покорены и предложили послам помещение, подобающее их положению. Однако апиру не добились немедленного приема у царя. На это не могли бы рассчитывать даже царские послы из Хатти или Пунта.
Они настроились ждать. Старейшины были терпеливы и радовались возможности отдохнуть в роскошных комнатах с высокими потолками, просторных, как полдюжины шатров, погулять в саду с фонтанами и деревьями, отягощенными плодами. Слуги были готовы исполнить каждое их желание. Молодые люди, расставшись с оружием, проводили время в городе, хотя и без особой охоты.
Моше, казалось, не воспринимал ничего, кроме голоса своего бога. Мемфис не был его столицей, он не правил в здешнем дворце. Этот город немного значил для него, даже если бы он потрудился вспомнить, кем был прежде.
Но для Мириам это было пыткой. Здесь, в этих стенах, она была царицей, здесь познала и величайшее счастье, и величайшее горе. А дворец не узнал Анхесенамон. Он забыл ее, как забывал всех умерших. Он и не мог поступать иначе, древний, переполненный воспоминаниями.