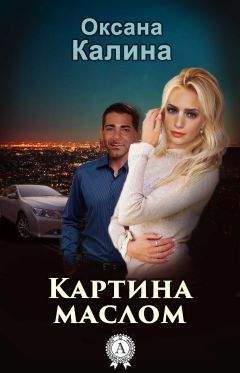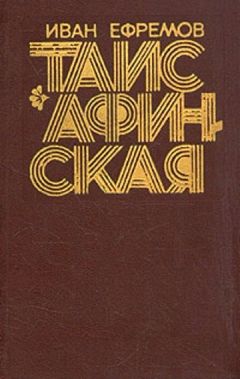Первые дни Александр не реагировал ни на что. Сошел с ума от горя и невыносимого страдания. Стонал, рычал от боли, выл от отчаяния или впадал в безумное оцепенение. Рассудок провалился во мрак, душа истекала кровью, сердце разорвалось. Случилось непостижимое, непереносимое. «За что вы отняли его у меня?!» Он не мог спать — его мучили кошмары, не мог бодрствовать — видения-воспоминания уводили его в другой, нездоровый мир. Невыносимый ужас случившегося раздавил его. Так тянулись самые тяжелые первые дни. Он молчал, погруженный в свою тоску, в мир своего траура, но иногда, если ей везло, Таис слышала от него больше, чем «да» и «нет». Например, «я не знаю, как мне жить», «я не могу ни о чем другом думать», «я хочу быть только с ним». Такие признания, конечно, не радовали, но Таис было важно, чтобы он говорил, чтобы оставалась какая-то связующая ниточка между его затемненным сознанием, полным Химер и Эриний, и белым светом.
Растерянность парализовала жизнь в лагере. Никто не знал, как подступиться к царю. Никто никогда не видел его в таком состоянии. Как бы тяжело ему ни бывало, он всегда — из каких уж сил, неизвестно, выказывал присутствие духа, силу, уверенность. А тяжелых моментов в его жизни хватало! Сейчас же он был совершенно сломлен трагедией и абсолютно невменяем. Таким он не был нужен никому… Одна Таис поклялась себе или умереть, или помочь ему. Она говорила беспомощные слова утешения и соболезнования, но не была уверена, слышит ли он ее, замечает ее присутствие, помнит вообще, кто она. Скорее всего — нет. Но он и не гнал ее, это было важно. У нее же разрывалось сердце как от скорби по Гефестиону, невозможности примириться с этим ужасом, так и от жалости к Александру. Иногда она, обессиленная и близкая к истерике, выходила в помещение охраны, падала на руки первому попавшемуся из гетайров и давала волю своему отчаянию: «Я не знаю, что мне делать…»
— Детка, — с легкой руки Александра его ближайшее окружение звало ее так, — уж ты постарайся, он одну тебя переносит. Уж ты посредницей как-нибудь, — уговаривали они ее.
Наступил момент, когда Александр нарушил свое молчание, и она в тишине и темноте шатра услышала его изменившийся, чужой голос: «Таис…»
— Да, жизнь моя.
— Гефестион. Его больше нет. А я его так люблю. Это возмездие за мои тяжкие грехи, это моя кара… Они отняли его у меня. Они знают, как прикончить меня. Они знают, где моя ахиллесова пята. Я не смог его защитить.
— Ты ни в чем не виноват, Александр. Я не знаю, кто, но только не ты!
— Это ужасно, да? — с каким-то удивлением спросил он.
— Да, милый, это чудовищно…
Покидая темную палатку царя, Таис на время возвращалась в мир; варила ему еду в надежде, что он что-то съест, выслушивала срочные донесения бесхозных македонцев, давала волю своему отчаянию наедине с верной Геро.
Проходя тополиной аллеей по мокрым, пахнущим горечью опавшим листьям, она с удивлением думала, что пару декад назад, нет, ровно две декады назад — они все втроем сидели в сказочном лесу, в блаженном состоянии, спокойные и благополучные, рычали друг на друга газелями, и ничего, ничего не предвещало такой ужасной и скорой развязки.
Александр приказал казнить врача, залечившего Гефестиона, и это не вызвало осуждения. По всей стране был объявлен траур — затихла музыка, погасли священные огни. Такие меры предпринимались только по смерти великого царя — но никто не возмутился. В Египет, в оазис Шивы был отправлен гонец с вопросом, как почитать Гефестиона. Через несколько месяцев пришел ответ — как героя. В Александрии Египетской был выстроен храм Гефестиону, и никто не посчитал это святотатством. Никто не стал вместо него хилиархом-везирем. Не было достойных на его должность, И на его место в жизни и душе Александра. Он оказался незаменимым — осталась зияющая, незаживающая рана… Потому что со смертью Гефестиона Александр не прекратил его любить. Эта потеря не унесла из сердца любовь, но она унесла из него жизнь.
Мир перестал существовать для него: армия, его народ, его империя, его планы, его дела — все потеряло значение, в том числе и «его маленькая девочка». Мир перевернулся и рухнул, полетел в Тартар. Оказалось, что именно Гефестион был той точкой опоры, вокруг которой держался мир Александра. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир», — сказал один из умных мужей. Все развалилось в одночасье, потому что из единственно возможного порядка выпало самое главное звено — Гефестион. И этот порядок никому не восстановить. Или все же Александру? Сможет ли он, захочет ли?
Неожиданно свалившееся горе поначалу разбудило в людях лучшие качества — сострадание, сочувствие, и они на время поднялись над собственной эгоистичной сутью. Но постепенно чужое несчастье и необходимость наблюдать страдание стали тяготить их. Хотелось, чтобы все скорее вернулось в привычное русло, не тревожило их совести и осознания собственного непроходимого эгоизма.
Александр был один. «Друзья мои! Нет на свете друзей», — ах, как прав оказался Аристотель.
Может быть, и хорошо, что он не замечал ничего кругом. Может быть, он сознательно избегал общества других, зная неискренность их чувств, особенно в такую болезненную минуту. В любом случае, он поступал правильно, всю жизнь тщательно скрывая свою личную жизнь от других. Он называл это таинством любви. «Таинство, вслушайся в это слово, Таис. Другим там нечего делать, это дело только двоих. Самое важное должно оставаться самым сокровенным».
«О, Афина! Дай мне свою мудрость!» — молила Таис. Мозги, казалось, плавились и распадались на атомы Демокрита от бесплодных мыслей и вопросов — почему, и что теперь делать. Не было сил. «Где найти просветление? Под какую сикомору сесть?» — думала Таис, глядя на дрожащие желтые листья тополей, под которыми она в забытьи остановилась.
Снова и снова видя полные страдания, потухшие и потому такие чужие глаза Александра, его апатию, летаргию, Таис оставляла безуспешные попытки убедить его в том, что он всем нужен, что он должен терпеть жить, и не погребать себя заживо, и не казнить себя ни за что. Что это не понравилось бы и Гефестиону. Ей оставалось только плакать от бессилия и осознания, что она ничего не понимает в жизни — ни смысла ее, ни бессмысленности.
— Ты не слышишь меня, — сетовала она, — ты не видишь меня… Я думала, вместе мы сможем легче пережить эти черные времена, вместе… но ты забыл меня… Я тебе не нужна.
…Вот она и произнесла самое главное и поразилась себе. Вот, оказывается, в чем дело. В ней! Значит, она ничем не лучше других и не имеет никакого морального права их осуждать. Ее не устраивает, что Александр забыл ее, имел несчастье углубиться в свое горе, тогда как он так необходим ей. Чтобы чувствовать себя хорошо, ей необходимо чувствовать себя любимой. Гефестион переступил через себя ради того, чтобы Александр смог стать счастливым с Таис. А она не в состоянии забыть о своих потребностях даже сейчас. Где же твое благородство, милая девочка, бескорыстие, где любовь?!