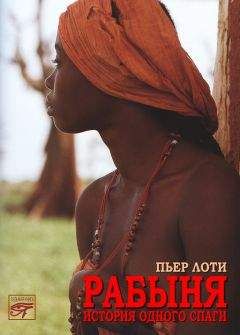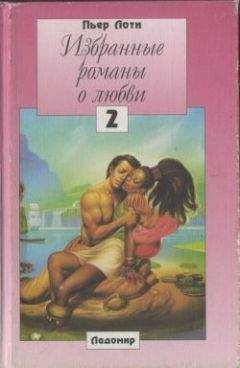— Что ты сделал с твоей женой Нокхудункхулле, которая была так красива?
И Ньяор с улыбкой спокойно ответил:
— Нокхудункхулле чересчур много болтала, я ее продал и купил тридцать овец, они-то всегда молчат.
На долю женщины выпадает самая тяжелая работа туземцев — толочь просо для кускуса.
С утра до вечера по всей Нубии, от Тимбукту до гвинейского побережья, во всех соломенных деревнях, опаленных неистовым солнцем, деревянные песты негритянок с грохотом опускаются в ступки. Тысячи увитых браслетами рук изнемогают от усилий, а сами работницы, болтливые и задиристые, добавляют к этому монотонному гулу пронзительные, похожие на обезьяньи, крики — над африканскими деревнями, будь то в тропических зарослях или в пустыне, всегда стоит слышный издалека невообразимый шум-гам.
Результатом бесконечного толчения, — а на это уходит жизнь целых поколений женщин — является грубая просяная мука для приготовления безвкусной каши — кускуса.
Кускус — основная еда черного населения.
Фату-гэй удалось отделаться от вошедшей в легенду работы женщин ее расы; каждый вечер она спускалась к Кура-н’дьяй, старой поэтессе короля Аль-Хаджа, женщине-гриоту, и там за небольшую месячную плату получала место у огромных калебасов, над которыми поднимался пар от горячего варева. Право уплетать его со свойственным ее шестнадцати годам аппетитом она делила с маленькими рабынями бывшей фаворитки.
Вытянувшись на тонких циновках с затейливым узором, старая блудница невозмутимо наблюдала за происходящим с высоты своей тары.
Трапезы в ее доме представляли собой шумное и весьма уморительное зрелище: сидя на корточках на земле вокруг огромных калебасов, маленькие обнаженные создания все разом запускали пальцы прямо в немудреное кушанье. И какой же тогда поднимался крик, сколько можно было увидеть всяких ужимок, гримас, негритянских проделок, не идущих в сравнение ни с какими другими; а тут еще несвоевременное появление баранов и кошки, незаметно протянувшей лапы, а затем исподтишка тоже запустившей их в кашу; вторжение желтых собак, сующих морды туда же, — словом, поводов для громкого смеха, обнажавшего великолепные белые зубы и ярко-красные, как маков цвет, десны, хватало.
Когда Жан, которому надлежало вернуться в казарму к четырем часам, приходил после вечерней переклички, Фату сидела уже одетая, с чистыми руками. На лице под высокой прической идола снова появлялось серьезное и чуть ли не грустное выражение; она становилась совсем другим существом.
По вечерам здесь, в мертвом квартале на окраине мертвого города, бывало печально.
Жан часто стоял у большого окна пустой белой комнаты. Долетавший с океана ветерок колыхал под потолком подвешенные Фату священные пергаменты, которым следовало оберегать сон своих хозяев.
Перед ним простирались бескрайние горизонты Сенегала — выдвинутая на юг оконечность Берберии, плоская необъятность, преддверие пустыни, на необозримые дали которой надвигалась темная пелена сумерек.
А еще он любил сидеть у двери дома Самба-Хамета, перед квадратным пустырем, окруженным старыми кирпичными развалинами, — подобием площади, посреди которой росла чахлая колючая желтая пальма, единственное дерево во всем квартале.
Усевшись там, Жан курил сигареты, которые научил крутить Фату.
Увы! За недостатком денег ему, видно, предстояло вскоре лишиться даже такого развлечения.
Потухший взгляд его больших грустных глаз следил за беготней трех маленьких негритянок, которые резвились при вечернем ветерке, напоминая в смутном свете сумерек ночных бабочек.
В декабре закат солнца почти всегда сопровождался в Сен-Луи свежим ветром, нагонявшим черные тучи — они внезапно заволакивали небо, но никогда не проливались дождем, проплывая где-то очень высоко, не уронив ни единой капли влаги: сухой сезон, во всей природе не сыскать даже малейшего признака воды. Зато в такие декабрьские вечера легче становилось дышать; однако передышка бывала недолгой, пронизывающая свежесть давала ощущение физического облегчения, но в то же время, неизвестно почему, навевала еще большую грусть.
И когда Жан с наступлением ночи сидел перед своей сиротливой дверью, мысли его витали далеко.
В казарме на стенах висели большие географические карты. Глядя на них, спаги каждый день совершал в воображении ставшее привычным путешествие по миру.
Сначала надо одолеть мрачную пустыню, начинавшуюся сразу за домом.
Эту первую часть пути ум его проделывал с особенной медлительностью, задерживаясь в множащихся таинственных безлюдных пространствах, где пески замедляют шаг.
Затем надо было пересечь Алжир и Средиземное море, добраться до берегов Франции; подняться вверх по долине Роны, чтобы очутиться наконец в точке, которая на карте отмечена маленькими черными штришками — где-то там, подсказывало воображение спаги, окутанные облаками, высятся голубоватые вершины, Севенны.
Горы! Он так давно их не видел, что начал уже забывать! Слишком долго пришлось ему привыкать к плоским пустынным пространствам.
А леса! Обширные влажные леса родных каштанов, под сенью которых бегут настоящие ручьи ключевой воды, и почва — земля, покрытая ковром свежего моха и шелковистых трав!.. Ему казалось, он почувствует себя лучше, просто увидев клочок мшистой земли вместо бесконечного сухого песка, приносимого ветром из пустыни.
А милая деревня! В своих грезах он словно бы парил над ней, замечая сначала сверху старую церковь, припорошенную снегом; колокол, призывающий, верно, на молитву «Ангел Божий» (ведь было семь часов вечера), и рядом — родительская хижина! И все это покрыто голубоватой дымкой, пронизанной бледным светом луны, — вечера в декабре холодные.
Возможно ли такое? В это самое мгновение и в этот час, вместе с тем, что окружает его здесь, существует и родной край, причем наяву, а не только в воспоминании, и туда можно поехать — не так уж далеко.
Что поделывают бедные старики сейчас, когда он о них думает? Наверняка сидят у огонька перед большим очагом, где весело пылают собранные в лесу ветки.
Жан вспоминал знакомую с детства маленькую лампу, помогавшую коротать зимние вечера, старую мебель, уснувшую на табуретке кошку. И среди милых сердцу вещей пытался представить себе дорогих хозяев хижины.
Сейчас около семи! Ну конечно, закончив ужин, они сидят у огня — оба, верно, постарели, — отец в своей привычной позе: подперев рукой красивую седую голову — голову бывшего кирасира, ставшего горцем; а мать, возможно, вяжет — большие спицы быстро скользят в ее добрых, проворных, трудолюбивых руках — или прядет кудель.