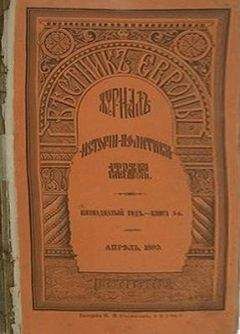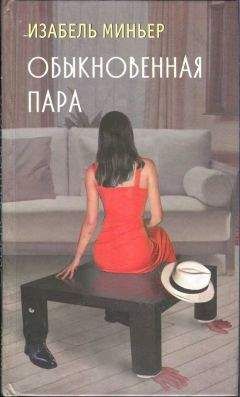Верэ сидела на скамье у креста, на коленях ее лежали цветы; на ней было белое платье без всяких украшений, она походила на девочку, которую Коррез некогда угощал вишнями и молоком.
Он облокотился о древесный ствол и не спускал с нее глаз.
Долго говорили они о посторонних предметах.
Наконец, молодая женщина собралась с духом и проговорила:
— Вы помните, как вы просили меня сохранить себя незапятнанной светом? Я хочу сказать вам, что всегда, всегда стремлюсь к этому. Мной не руководили ни самолюбие, ни тщеславие, как вы, вероятно, думали. Больше я сказать вам ничего не могу. Но если вы хоть сколько-нибудь понимаете меня, то, конечно, понимаете, что я говорю правду.
— Я знал это прежде, чем вы мне сказали.
Он забыл, что не так еще давно подозревал и упрекал ее.
Верэ молча связывала свои цветы.
Он следил за нею, в его темных глазах сверкали слезы.
— Не я один вас понял без слов, княгиня; вероятно, свет вас понимает, и вот почему добрая половина ваших знакомых не в силах простить вам.
— Теперь я вас не понимаю, — с слабой улыбкой вопросительно проговорила Верэ.
— Да, вы меня не понимаете, — быстро проговорил он, — в этом вся опасность. Знаете ли вы, чего стоит быть чистой женщиной в том свете, в котором вы живете? Знаете ли, какая казнь за это преступление — одиночество. Если вам стыдно ходить полуодетой, если вы не желаете смеяться над неприличными намеками, понимать непристойные песни, иметь в числе своих друзей женщину с двусмысленной репутацией, если вы такая отсталая, — вы оскорбляете свое поколение, вы ему живой упрек. Неужели вы не сознаете, что ваши современницы скорей простили бы вам порок во всей его наготе, чем эти незапятнанные одежды, которые вы достойны носит наравне с детьми и с ангелами?
Он умолк.
Верэ слушала, лицо ее слегка заалелось, потом покрылось еще большей бледностью. Теперь она хорошо, слишком хорошо поняла его. Смутный стыд закрался ей в душу при мысли, что он знает, как темен ее пут, как ненавистна ей ее собственная участь.
Она собрала свои цветы и встала.
— Далеко мне до ангелов, вы слишком хорошего обо мне мнение, — проговорила она слегка дрожащим голосом. — Солнце, кажется, садится. Становится холодно.
— Да, скоро стемнеет. Княгиня, вы не забудете моих слов, вы будете осторожны с вашими врагами?
— Кто они такие?
— Все женщины вашего круга и большая часть мужчин.
Она вышли на перекресток, где ждал ее экипаж.
— Увижу ли я вас завтра? — спросила она, подавая ему руку.
— Завтра я отправляюсь на охоту, где пробуду, может быть, несколько дней, но по возвращении буду иметь честь приветствовать вас.
Экипаж покатился.
Птицы пели в лесу. Солнце садилось.
«Они поют и в моем сердце, — подумал Коррез, — но их слушать не надо. Гейне знал судьбу-капризницу, он не прибегнул ни к какому чуду, чтобы заставить сосну встретиться с пальмой».
За несколько дней до своего отъезда из Ишля, Верэ Зурова и герцогиня Жанна собрались, в сопровождении многочисленной свиты, обозревать старинный, живописный, оригинальный городов Ауссе.
Верэ, тяготившаяся болтовней своих спутников, отстала от них, и пошла одна-одинехонька осматривать церковь (Spital-Kirche), об алтаре которой, древнегерманском произведение, относящемся в четырнадцатому столетию, говорил ей Каульбах.
Эти старинные церкви в австрийских городах способны внушать благоговейные мысли; в них царят мрак и тишина. Смелые рыцари, дела которых по сие время воспеваются в сумерки, под аккомпанимент цитры, спят под поросшими травою плитами. Высоко над головами молящихся виднеется колоссальное распятие. Сквозь полурастворенную, обитую железом дверь, доносится запах сосны, перед тускло-горящими лампадами непременно стоит на коленях и молится какая-нибудь согбенная старушка. Таким же характером отличается церковь в Ауссе.
Верэ принялась срисовывать алтарь; а когда убедилась, что задача эта превосходит ее слабые силы, оставила кисти и краски, села на потемневшую от времени скамью и погрузилась в глубокую задумчивость.
Звуки органа вывели ее из оцепенение, она прислушалась. Кто-то играл «реквием» Моцарта. Торжественно звучала в маленькой церкви дивная мелодия. К Верэ подошел мальчик, русокудрый и голубоглазый, и подал ей букет альпийских роз, посреди которых виднелся темно-голубой цветок Вольфинии Коринтианы, растущей, как говорят, исключительно на отлогостях Гартверкегеля.
— Господин, для которого я работал органными мехами, посылает вам эти цветы, и спрашивает, не может ли он повидать вас на минуту?
— Скажи, что да.
Через мгновение перед ней стоял Коррез.
— Я думала, что вы далеко, — с усилием сказала она ему, — мне казалось, вы в Гаге.
— Я там буду, но неужели вы думаете, что я так скоро покину Австрию, когда вы в ее пределах?
— Вы писали m-me де-Сонназ.
— Я писал ей многое, чему она, конечно, не поверила, — быстро возразил он. — Со светом приходится бороться его же оружием, или быть побежденным. Вы для этого слишком правдивы.
Он вздохнул. Верэ молчала. Она не вполне постигала его.
— И вы все это время были среди ледников? — наконец, спросила она.
— Нет, я был в Каринтии. Разве вы не знаете, что этот голубой цветок растет лишь на Гартверкегеле, и более нигде во всей Европе. Мне захотелось его вам привезти.
— Вы только за этим и ездили?
— Только за этим. Что вам подарить? у вас все есть. Князь Зуров купил вон один из крупнейших брильянтов в свете, но не думаю, чтобы он полез доставать вам Вольфинию. А она не более как горный цветок.
— Да, не более, как горный цветок! — но тон, которым он говорил, придавал Вольфинии значение цветка Оберона.
— Почему вы знали, что я здесь?
Он улыбнулся.
— Очень просто. Сегодня рано я был в Ишле. Вы едете в Россию?
— Через три дня.
Он вдруг опустился к ее ногам.
— Я не более, как певец, — прошептал он, — но чту вас, как другие, более серьёзные люди чтить не могут. Не верьте никому, кто станет говорить вам обо мне дурно. Если вам когда понадобится слуга или мститель — позовите меня. Если буду жив — явлюсь. Увы, ни мне и никому другому не спасти душу вашу вполне, но вы в руце Божией, если над нами есть Бог. Простите.
Он удалился; десять минут спустя и она вышла из церкви, заслышав голоса друзей своих.
— Где вы были, моя милая, — закричала ей герцогиня, — что это за цветок; неужели он растет в церкви?