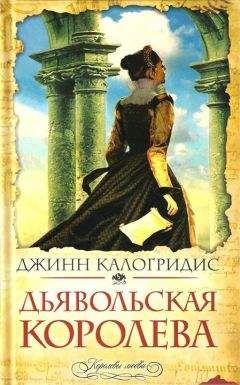К моему изумлению, он крепко сжал мои руки, вгляделся в лицо так внимательно, словно выискивал что-то. Глаза его светились любовью, мне даже показалось, что сейчас он поцелует меня в губы.
— Хорошо, пусть сразу, — согласилась я. — Долгие прощания ни к чему. — Я закрыла глаза, с трепетом ожидая поцелуя, которого не последовало.
Маттео вдруг выпустил мои руки. Когда я открыла глаза, он снял что-то с шеи, стянул через голову ремешок и протянул мне. Я во все глаза с явным недоумением уставилась на маленький черный ключ, который болтался на кожаном ремешке в длинных пальцах мужа.
— Это на крайний случай, — сказал он.
— Он ведь от тайника в стене, — произнесла я с недоверием. — Ты хранишь там свои бумаги.
Маттео кивнул.
— Почему ты не отдал его Чикко?
— Потому что эти бумаги не для него, — ответил он таким тоном, что у меня по спине побежали мурашки. — И ни для кого больше, кроме тебя. Но только на крайний случай.
— Не будет никакого крайнего случая, — угрюмо возразила я, затем взяла ключ и надела себе на шею.
Его слова породили множество тревожных вопросов. «Если ты работаешь не на Чикко, то на кого? Почему? Что это за бумаги?» Но я не спросила ни о чем — Маттео уже стоял в дверях, готовый уйти.
— Я верну его тебе, когда ты приедешь.
«На Рождество», — едва не добавила я, вдруг поняв, как долго мужа не будет.
— Дея, — проговорил он нежно, снова попытался взять меня за руки, но я раскинула их и обняла его.
На этот раз муж ответил на мое объятие, затем отстранился, одарил меня искренней, полной любви улыбкой.
— Моя Дея, храни тебя Господь!
— И тебя, — отозвалась я, стараясь держаться спокойно. — Ох, Маттео, береги себя!
Мне хотелось сказать: «Не надо тебе ехать в Рим!», но я чувствовала, что если осмелюсь произнести это, то супруг навсегда выскользнет из моих объятий.
Он склонился надо мной, торжественно, по-братски, поцеловал меня в губы, после чего пообещал:
— Ты обязательно увидишь меня снова, Дея.
— Конечно, — отозвалась я, а муж развернулся и ушел.
Все время, что Маттео отсутствовал, я ночевала на узкой койке в изножье кровати Боны, на которой спала несколько лет до замужества. Без супруга его комната казалась мне заброшенной и пустой. Я не могла спать одна на нашей общей постели и не стала засиживаться перед камином. Тем утром Бона ждала меня, нам предстояло переделать еще кучу дел перед ежегодным отъездом в Милан на Рождество.
Но я все-таки задержалась еще немного, чтобы в последний раз поворошить угли и убедиться, что дым не идет в комнату. Поглядев на золотистое пламя, я увидела, что тонкие веточки, накиданные поверх поленьев, образовали перевернутую четверку. Повешенный.
Бона в то утро была необычайно весела. После очередной выходки мужа, доказывающей его неверность, она чаще всего горевала по нескольку дней. Когда же я вошла в ее комнату на этот раз, герцогиня сказала, что Галеаццо благосклонно принял ее предложение устроить для тайного гостя торжественный обед. Сфорца был не в восторге, но, по-видимому, Лоренцо настоял на этом, желая загладить свою вину за то, что прервал молитву дам.
Предполагался обед в узком кругу. Столовая, расположенная в угловой башне, отличалась невероятно высокими сводами. Каменный пол был устлан персидскими коврами алых, бежевых и золотистых тонов, которые приглушали шаги слуг, звон кубков и тарелок. Два арочных окна выходили на север и восток, этим утром они были закрыты ставнями от посторонних глаз и ледяного ветра, а в громадном камине ревело такое высокое пламя, что я вспотела, не успев войти в комнату. По обеим сторонам восточного окна висели два больших гобелена, стены были закрыты шпалерами с цветочными мотивами. Но самой замечательной деталью убранства, по моему мнению, были восемь вытянутых овальных зеркал. Четыре висели на стене позади стола, еще столько же — напротив. Герцог видел в них не только самого себя, но и каждого, кто находился перед ним или у него за спиной. Благодаря этому и еще четверым слугам, пробовавшим все блюда, какие появлялись на тарелке господина, и вина из его кубка, Галеаццо чувствовал себя здесь в относительной безопасности. Он и сам понимал, что нажил немало врагов.
Когда за час до полудня мы, женщины, пришли, Лоренцо уже находился в столовой. Он широко улыбался, отчего неправильный прикус был заметен сильнее обычного и виднелись нижние зубы, однако эта улыбка удивительно скрашивала его безобразную внешность. Этим утром Медичи никто не сопровождал, он пришел один, в простой длинной тунике из серой шерсти. На нем не было никаких украшений, и щипцы парикмахера не успели свести знакомство с его прямыми волосами. Но когда объявили о приходе Боны, Лоренцо поклонился и поцеловал ее протянутую руку с изяществом опытного царедворца. Пусть он и пытался изображать из себя мещанина, но его самообладание и уверенность выдавали человека высокого происхождения. О приходе Катерины тоже было громко доложено, и она удостоилась тех же знаков внимания со стороны Лоренцо. Я вошла без фанфар и объявлений, не ожидая никаких приветствий, однако Лоренцо низко мне поклонился.
В ответ я опустилась в реверансе, а он дружески произнес:
— Дея, верно? Жена Маттео да Прато?
— Верно, — ответила я, краснея.
Я привыкла к тому, что не интересна никому, кроме Боны.
— Я уже много лет знаком с твоим мужем, — продолжал он. — На самом деле это я рекомендовал его на службу герцогу.
Смущенная его галантностью и непринужденными манерами, я не нашлась что ответить.
Галеаццо опаздывал, и Бона с Лоренцо целых полчаса болтали о разных пустяках. Первым появился грузный, могучий Чикко Симонетта, секретарь и правая рука герцога. По крестьянской прическе — волосы были длинными на макушке и коротко остриженными над непропорционально маленькими ушами — и круглому лицу с грубыми чертами его можно было бы принять за простолюдина, если бы не изящное платье и проницательный взгляд. У герцога не было тайн от Чикко, который приветствовал Лоренцо в высшей степени сдержанно, даже без намека на улыбку.
Последовала пауза, после чего появились три угрюмых вооруженных стражника, прислуга засуетилась, из кухни спешно прибежал виночерпий герцога. Тут явился и сам Галеаццо — без обычного пения фанфар, поскольку об обеде с Лоренцо в замке Павии должно было знать как можно меньше народу. Однако тщеславие герцога требовало, чтобы его приход сопровождался хвалебными песнопениями в исполнении того самого кастрата, который вместе с остальными развлекал нас накануне в покоях Боны.