Сэр Роберт был зол, но не позволял своей злости выплескиваться наружу. Все так же сжимая жене запястья, он сказал:
— Я никогда не строил из себя святого. Пусть я грешник, но, слава Богу, грешник со здравым рассудком.
У леди Дадли задрожали губы. Она посмотрела в окаменевшее лицо мужа и вдруг протяжно завыла. Из глаз хлынули слезы, а голос зашелся от рыданий.
— Роберт, я не сумасшедшая, — всхлипывала она. — Я больна. Я больна горем.
— Позови миссис Оддингселл, — попросил меня сэр Роберт. — Она знает, что делать.
Мне было не оторваться от жуткого зрелища, я глазела, как Эми извивается у ног мужа.
— Что? — рассеянно спросила я.
— Позови миссис Оддингселл. И быстрее.
Я кивнула и покинула комнату. В коридоре толпилась едва ли не половина слуг.
— Расходитесь! — бросила я им, словно хозяйка дома, и побежала в комнату Лиззи Оддингселл.
Она сидела перед скромно растопленным камином, кутаясь в платок.
— Сэр Роберт послал за вами, — выпалила я. — Леди Дадли… плачет. Ее никак не успокоить.
Мои слова ее ничуть не удивили. Миссис Оддингселл вскочила на ноги и быстро вышла из комнаты. Я пошла следом.
— Это с нею уже бывало? — спросила я.
Она кивнула.
— Скажите, леди Дадли больна?
— Ему ничего не стоит огорчить ее.
Возможно, это была не вся правда, учитывая преданность миссис Оддингселл своей подруге.
— А она всегда была такой?
— В молодости это сходило за страстность. Спокойнее всего Эми жилось, когда он был в Тауэре. Кроме той поры, когда там же находилась и принцесса.
— Что? — не поняла я.
— Тогда Эми исходила на ревность.
— Какая ревность? — удивилась я. — Они же были узниками. Их держали в разных зданиях. Или леди Дадли думала, что тюремщики устраивали им бал-маскарад?
Миссис Оддингселл кивнула.
— В своих мыслях она всегда считала их любовниками. А теперь сэр Роберт на свободе и волен приезжать и уезжать, когда вздумается. Эми знает, что он продолжает видеться с принцессой. Рано или поздно он разобьет ей сердце. И это не просто слова. Она умрет от горя.
Мы подошли к развороченной двери комнаты доктора Ди.
— Простите, что суюсь не в свое дело, — сказала я. — Вы для леди Дадли — вроде няньки?
— Скорее, вроде хранительницы, — ответила миссис Оддингселл и тихо открыла дверь.
Гадание пришлось отложить. На следующий день леди Дадли заперлась у себя в комнате и не пожелала выйти к завтраку. Джон Ди попросил меня помочь с переводом пророчества, имевшего, как ему думалось, отношение к королеве. Я читала ему разрозненные греческие слова. Мне они казались полной бессмыслицей. Однако доктор Ди тщательно записывал каждое слово, поскольку каждое обозначало какое-то число. Мы встретились в библиотеке. Хозяева дома бывали здесь редко, и на нас пахнуло холодом давно не топленного помещения. Сэр Роберт велел слугам принести дров для камина и открыть ставни.
— По-моему, это шифр, — сказала я, когда слуги ушли, и мы остались вдвоем.
— Ты права. Это действительно шифр древних, — кивнул Джон Ди. — Возможно, они даже знали шифр жизни.
— Шифр жизни? — удивилась я.
— А что, если все состоит из одних и тех же элементов? — вдруг спросил меня капеллан епископа. — Песок и сыр, молоко и глина. Представляешь? Вдруг разнообразие форм и различия — не более чем иллюзия? А в основе лежит одна-единственная форма, и ее можно увидеть, записать и даже воспроизвести.
— И что тогда? — спросила я, удивляясь его рассуждениям.
— Эта форма могла бы оказаться ключом ко всему, — сказал он. — Она явилась бы стихом, сокрытым в сердце мира.
Все это время Дэнни тихо спал на широкой скамеечке для ног. Возможно, его разбудил наш разговор. Малыш потянулся и сел, с улыбкой оглядываясь вокруг. Заметив меня, он улыбнулся еще шире.
— Ну как, хорошо поспал? — спросила я.
Дэнни слез со скамеечки и приковылял ко мне, держась за стул. Потом он схватился за подол моего платья и запрокинул головку, внимательно вглядываясь в мое лицо.
— Какой тихий ребенок, — заметил Джон Ди.
— Он не говорит, — объяснила я, улыбаясь малышу. — Но ребенок он смышленый. Понимает все слова. Если попросить его что-то принести, принесет именно то, что просили. И свое имя он знает. Правда, Дэнни? Но почему-то не говорит, хотя давно уже пора.
— Он всегда был таким?
У меня от страха сжалось сердце. Я ведь не знала, каким был этот ребенок, когда жил с родной матерью. Если сказать «да», вдруг я сделаю только хуже, и Дэнни у меня отнимут? Я не имела на него никаких прав. Он родился не из моего чрева. Правда, он родился от моего мужа, а мать ребенка перед своей гибелью вручила его моим заботам. Всю любовь и заботу, какую я задолжала мужу, я хотя бы частично восполняла любовью и заботой о его сыне.
— Я не знаю. В Кале он жил у няньки, — соврала я. — Она принесла ребенка лишь в последние дни, когда город оказался в осаде.
— Возможно, ребенок был сильно напуган, — предположил Джон Ди. — Он видел сражения?
Теперь мое сердце защемило от боли.
— Напуган? — недоверчиво переспросила я. — Но ведь он совсем маленький. Едва ли он отличил бы сражение от шумной ярмарки. Дети в таком возрасте еще не понимают, что такое опасность.
— А откуда мы знаем, о чем думает твой малыш или что он способен понять? Я не верю в распространенную теорию, будто дети появляются на свет пустыми, как горшки, и знают только то, чему мы их научим. Он жил в доме, привык к женщине, которая ухаживала за ним. Потом эта женщина вдруг хватает его и бежит разыскивать тебя. Дети знают больше, чем нам кажется. Нам просто не хочется в это верить. Скорее всего, твой малыш пережил такой страх, что теперь боится говорить.
Я наклонилась к ребенку. Его светло-карие глаза внимательно смотрели на меня, подвижные, как глаза олененка.
— Дэниел, — позвала я.
Впервые я подумала о нем не просто как о малыше, а как о маленьком человеке, способном думать и чувствовать. Наверное, он помнил руки своей матери, ласкавшие его. А потом эти руки вдруг швырнули его в руки незнакомой и совершенно чужой женщины.
Я задумалась о словах Джона Ди. Если мне, сравнительно взрослой женщине, до сих пор было страшно вспоминать о бегстве из Кале, то каково было Дэнни, если он своим детским разумом понимал творившееся вокруг? Вдруг он понял, что его мать убита копьем? Понял, что его, точно сверток, куда-то везут сначала морем, потом в седле? Может, он и сейчас понимал всю неопределенность нашего положения в доме, где нас терпели только из милости?
Я наклонилась к нему, чувствуя подступающие слезы. Пожалуй, я могла понять Дэнни, как никто другой. Мы с ним оба остались без матерей. И если я прятала свои детские страхи под чужими языками, учась говорить на них, как на родном, Дэнни лишился матери гораздо раньше, и страх сделал его немым.
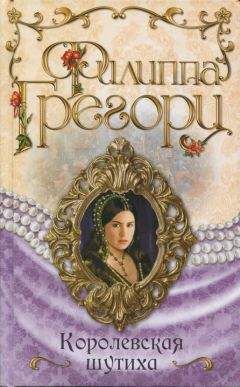
![Натализа Кофф - Воровка, или Противоположности притягиваются[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/11549/11549.jpg)


