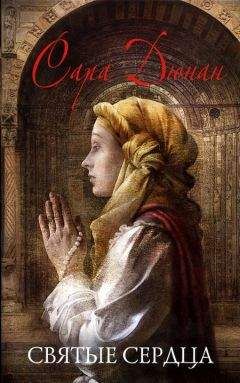В первом ряду юная Евгения, которая едва не засыпала прошлой ночью в церкви, теперь весела, как только что оперившийся воробышек. Пока она ерошит перышки, готовясь запеть, Зуана замечает легкий намек на кудряшку, высовывающуюся из-под ее покрывала, без сомнения, дань изменению образа аббатисы.
— Воспрянь, пресветлый Иерусалим…
Слова в ее устах превращаются в полированное серебро. У нее есть молодость, один из лучших голосов в хоре, здоровый аппетит к сплетням и интригам монастырской жизни. Шестью месяцами раньше она пришла в лазарет к Зуане, прихрамывая из-за шипа в пятке, застрявшего там с тех пор, как она наступала босиком на терновый венец, дабы разделить страсти Христовы. Только нога стала болеть слишком сильно, и ей захотелось шип вытащить. Неделю спустя в часы рекреации она уже вовсю гонялась за белками в саду, и ее хорошее настроение заражало и вдохновляло куда сильнее, чем нерешительные попытки умерщвления плоти. С тех пор Зуана испытывала к ней определенную нежность.
— …Аллилуйя.
Человек знающий сказал бы, что Евгения слишком долго держит последнюю ноту, точно птичка, защищающая свою территорию от возможного покушения соплеменников. Но в церкви ее пение наверняка заставит кое-кого из молодых пересмотреть свое представление о рае.
Теперь все взгляды устремлены на Серафину. Та стоит, вытянувшись, осунувшаяся, бледная, кожа почти серая, и смотрит прямо перед собой. Медленно она нагибается вперед, обхватывая рукой живот.
Когда она поднимает голову снова, Зуане на мгновение кажется, что девушка смеется; есть что-то похожее в том, как она переводит дыхание. В хоре кто-то нервно хихикает. Зуана слишком поздно понимает, что происходит.
Серафина открывает рот, и оттуда в сопровождении рыгающего звука тугой струей вырывается желчь.
— Выпей.
Девушка трясет головой.
— Это всего лишь вода с имбирным настоем.
— В таком случае выпей сама.
Зуана берет глиняный горшочек и отпивает глоток.
— Спроси любую из сестер — мои яды работают быстрее, чем мои лекарства. Если я еще стою на ногах, значит, можешь быть уверена: снадобье безвредно. — Она делает второй глоток, потом ставит горшочек перед девушкой. — Делай как знаешь, но, если хочешь, чтобы тошнота прошла, мой тебе совет — выпей.
Как Зуана и надеялась, от легкого нетерпения в ее голосе взгляд девушки вспыхивает. Она берет горшок и начинает нить, сначала понемногу, потом большими глотками. Обе молчат, Зуана деловито прибирает бутылки и мерные емкости. Обернувшись, она видит, что к щекам девушки возвращается румянец.
— Лучше?
— Что это было?
— Я же тебе сказала. Корень имбиря. Он полезен для желудка.
— Я про отраву прошлой ночью.
— А… белладонна, аконит, кашица из листьев тополя, маковый сироп.
— И от чего же меня сейчас так тошнит?
— От мака, наверное. Похоже, он дольше всего не выходит из тела.
Серафина сидит на подоконнике в аптеке. За окном, довольно далеко, лежит простой клочок земли, который служит обители кладбищем: ряды аккуратных деревянных крестов, как точки в конце каждой истории о выполненном долге. Показывая девушке монастырь, Зуана не повела ее на кладбище и не хотела бы, чтобы та сейчас его заметила.
— А сны ты видела?
Та медленно кивает, явно не зная, говорить или нет. Зуане хорошо памятна эта скрытность: в первые дни ужас заточения заставляет казаться подозрительными даже самые простые знаки внимания и доброты.
— Кошмары?
— Я тонула. — Воспоминание омрачает голос девушки. — Не в воде, а в камне, в жидком камне. Я все пыталась закричать, но стоило мне открыть рот, как он затекал внутрь.
Сколько подобных историй слышала Зуана? Ее отец записывал сны, поскольку интересовался тем, как их изучали древние и что из них можно узнать. Самыми дикими всегда были видения, вызванные маковой настойкой, ведь снадобье словно питалось тревогами и страхами того, кто его принимал.
— Этот настой может вызывать странные видения. Но они скоро уйдут.
— В отличие от меня? — говорит девушка ядовито. И делает новый глоток. — Я тоже здесь не останусь. Слова шли из моих уст, не от сердца.
И она снова набычивается, решительно склонив голову.
Зуана спокойно наблюдает за ней. Они наверняка уже обсудили все с аббатисой, оставшись в ее покоях вдвоем: что любая послушница, отданная в монастырь против воли, может спустя год отказаться от своих обетов и обратиться к епископу с просьбой об освобождении. О чем еще они могли говорить? И разумеется, аббатиса сочла своим долгом показать ей всю позорность такого поведения и объяснить, что если община не сможет справиться с источником беспокойства самостоятельно, то во всей Церкви не найдется ни одного епископа, который согласится выслушать ее протест, не говоря уже о том, что семья ни в коем случае не примет отступницу обратно. Так что в конце концов у молодой женщины останется лишь два пути: слезами довести себя до тихого помешательства или, с Божьей помощью, найти в себе силы превратить свой протест в смирение перед неизбежным. Так, как это сделали до нее многие другие.
— Ты думаешь, что я отступлюсь!
— Я понятия не имею, что ты сделаешь. Но имей в виду: мороз сильно повредил мой аконит в этом году, а поскольку он помогает не только от зубной боли, но и от истерик, то, я надеюсь, ты не долго будешь кричать по ночам.
— Если и буду, то твою отраву больше не приму. Я… ай… — Она умолкает и закрывает руками уши.
— Что с тобой? Снова тошнит?
Девушка мотает головой.
— Глаза давит.
— Это из-за повязки. Когда говоришь, собственный голос в голове отдается? Если запоешь, станет хуже. Кто тебя одевал сегодня утром?
— Я… я не знаю. У нее был толстый нос и бородавка на подбородке.
Ага, не проказница, а злюка.
— Августина. Дочка мясника. Она с детства привыкла сворачивать шеи цыплятам, вот и упражняется теперь на всех подряд. Будет лучше, если ты найдешь себе другую помощницу для кельи.
— А как это сделать?
— Едва голос вернется к тебе, сестра Бенедикта все устроит, не сомневаюсь.
Она наблюдает, как девушка морщится, и смягчается. Слишком жестоко оставлять все как есть.
— Я могу ослабить тебе повязку, если хочешь.
Девушка колеблется. Попросить помощи не означает ведь сдаться.
— Да. — Молчание. — Пожалуйста.
Она сидит, недвижная, словно статуя, когда Зуана подходит к ней и в поисках булавок просовывает руки под ткань у нее на затылке. При свете дня, да еще так близко, она видит белую, как сливки, юношески нежную кожу, пухлые, как у купидона, губы над волевым подбородком и глаза, такие глубокие и темные — скорее черные, чем карие, — что радужка почти сливается со зрачком. Нельзя сказать, что она хороша, как мадонна, зато в ее чертах угадывается характер, сильный, даже необычный.