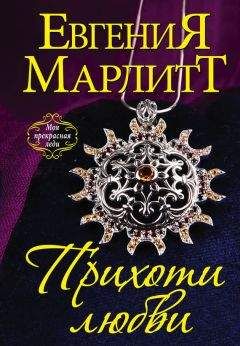Тем временем наступили перемены и в Совином доме. Гейнеман, потирая руки, говорил, что отлично устроил все дела. Однажды перед садом остановилась телега, и воск, собранный трудолюбивыми пчелами и монахинями, из вековой тьмы был вынесен на свет божий и увезен, чтобы служить людям. После этого Гейнеман, положив пачку ассигнаций на стол своей барышни, сказал с плутовским блеском в глазах, который так шел его открытому широкому лицу, что теперь можно мазать немного больше масла на хлеб к чаю и класть в суп побольше мяса, а купить новые занавески просто необходимо, поскольку много глаз заглядывает с шоссе в окна угловой комнаты.
Да, на дороге стало гораздо оживленнее, и очки фрейлейн Линденмейер сидели больше у нее на лбу, чем на носу. Она чаще опускала вязанье и не могла внимательно читать из-за оживления на шоссе, но говорила об этом со смехом. Лесное уединение хорошо, небо прекрасно – иначе поэты не воспевали бы его так единодушно, но, право, когда за целый день не проедет даже самый простой воз, не говоря уже о веселых разносчиках или молочницах из деревни, становится скучновато.
Первыми приехали из Герольдгофа три маленьких принца со свитой и прислугой; вероятно, им очень нравилась дорога к Совиному дому, потому что они ежедневно на ней появлялись. Великое удовольствие доставляли они фрейлейн Линденмейер, проезжая на красивых пони. Так же хорош был экипаж Нейгаузов, его можно было рассмотреть в подробностях, потому что он всегда ехал очень медленно; в нем обыкновенно сидела фрау фон Берг и держала на коленях маленькую жалкую дочурку принцессы Екатерины, а барон сам правил лошадьми.
Гейнеман, напротив, как только показывался экипаж, всегда особенно усердно начинал заниматься своими розами; он старался не слышать и не видеть его, поворачиваясь спиной к шоссе: эта полная женщина так важничала, сидя в роскошной коляске, как будто сама была герцогиней, и потому он ее терпеть не мог. Старик сам видел, как она однажды, заметив его барышню, стоявшую у перил в белом воскресном платье и прекрасную как ангел, отвернулась так быстро, словно ей в лицо прыгнула ядовитая жаба. Проезжая мимо, она насмешливо рассматривала в лорнет Совиный дом и так высокомерно оглядела с головы до ног его самого, старого Гейнемана, как будто он обязан был поклониться ей самым покорным образом.
Ну, ей пришлось бы долго ждать этого.
Совершенно другое дело, когда на своем прекрасном Фуксе проезжал мимо барон Нейгауз. Тогда безжалостно срезалась самая прекрасная роза и подавалась через забор всаднику, который продевал ее в петличку. Гейнеман откровенно сознавался, что не понимает, что с ним стало, – как ни старался, он не мог по-прежнему враждебно относиться к Нейгаузу и с удовольствием смотрел в его повелительные, огненные глаза, когда тот, сидя на лошади, разговаривал с ним через забор.
Беата также несколько раз побывала в Совином доме. Обычно она приходила пешком и оставалась выпить кофе; несмотря на свою скованность, она как-то призналась, что эти посещения радовали ее целую неделю… Подруги сидели за чашкой кофе на площадке, а маленькая Эльза прыгала и играла около них. И хотя господин фон Герольд никогда не мог решиться сойти вниз поздороваться с гостьей – его всегда передергивало при воспоминании о встрече с ней на лестнице Герольдгофа, – он все-таки видел из окон своей комнаты, как его дочка прижималась к коленям «тети Беаты», нежно гладила большие темные руки и принимала из них бутерброды. Вечером барон Лотарь аккуратно приезжал за сестрой.
Гейнеман оставался при лошадях, а Нейгауз шел на площадку к дамам и часто заходил в колокольную комнату поздороваться с хозяином.
Высокопоставленные владельцы переехали в Герольдгоф, и теперь над его крышей развевался яркий флаг. Сейчас, наверное, не было ни одного пустого уголка в Герольдгофе. Но дом был огромный, каждое поколение его прежних владельцев увеличивало и украшало родное гнездо сообразно своим потребностям и вкусам. Его размеры и архитектура вполне заслужили ему название замка.
Косые лучи солнца падали на величественный передний фасад с двумя башнями по бокам. В высокие, широко открытые окна врывался воздух, напоенный смолистым ароматом сосен и лесной прохладой.
– Чудесный воздух! Источник здоровья для меня! – с волнением говорила молодая герцогиня Елизавета тихим, охрипшим голосом.
Это было на второй день ее приезда. Накануне после утомительного пути она, по совету врача, не вставала с постели. Сегодня она уже чувствовала себя удивительно окрепшей и прошла под руку с мужем в комнаты верхнего этажа. Можно было содрогнуться, глядя отсюда на раскаленную солнцем равнину, но тут солнечный жар не тяготил: лучи, проникая сквозь зелень, смягчались и становились изумрудными.
– Здесь я снова стану твоей бодрой кошечкой, твоей веселой Лизель, правда, Адальберт? – повторяла молодая женщина, нежно заглядывая в глаза своего красавца-мужа.
Она усиленно выпрямляла свой слишком тонкий стан и старалась идти рядом с ним твердыми шагами… Да, хотя ее отражение в высоких зеркалах своей худобой и бледностью напоминало тень – здесь она должна скоро выздороветь. Силы возвращались, заостренное лицо округлялось, и стан принимал ту округлость и грацию, за которую ее называли нимфой. Только бы пожить два месяца в этом лесном раю – и все пойдет хорошо!
Герцогиня поместилась в восточном флигеле, к которому примыкала выходившая во двор столовая, и только общая приемная отделяла ее комнаты от половины мужа, расположенной на западной стороне. Длинная анфилада кончалась его комнатой, один угол которой выходил в башню. Здесь висели дорогие картины, большей частью испанские виды, как будто наполнявшие помещения южным теплом и светом. Лиловые плюшевые гардины-драпри, падающие глубокими тяжелыми складками, отделяли угол башни.
Посреди комнаты стояла лестница. Старый Фридрих, или, как его теперь звали, кастелян Керн, только что повесил фонарь и стал поспешно слезать с лестницы при появлении господ.
Герцогиня невольно остановилась в дверях.
– Ах, здесь жила прекрасная испанка! – воскликнула она слегка дрожащим голосом. – И, вероятно, здесь же умерла?
Она со страхом устремила свои большие, лихорадочно блестевшие глаза на старика, который низко ей поклонился. Он отрицательно покачал головой.
– Нет, ваше высочество, не здесь. Господин действительно отделал для нее эту комнату, и это дорого стоило ему, но она не пробыла тут и двух часов. Скотный двор слишком близко отсюда. Покойница не выносила мычания коров. А когда мимо проезжала телега или шла молотьба, она затыкала себе уши и бежала через все комнаты, пока не находила самого тихого уголка, и забивалась туда, как испуганный котенок. Да, она не годилась в помещицы! Была тиха и печальна и не хотела есть, только изредка брала кусочек шоколада и этим жила. Под конец она перешла в садовый флигель; пока еще была хорошая погода, ее закутывали в шелковые одеяла, выносили на воздух и клали на мох в том месте, где сад подходит к лесу. Там ей больше всего нравилось в «бледной стране», как она называла нашу милую Тюрингию, и там в один осенний день она и угасла. Тоска по родине была причиной ее смерти.