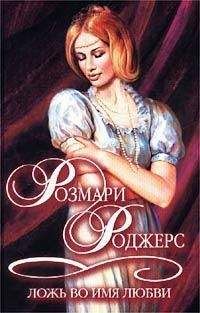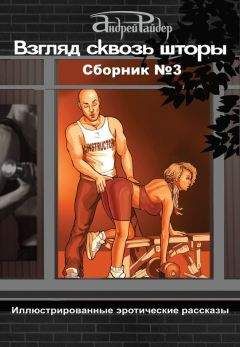Доминик заметил, как молодой капитан прячет глаза, не желая встречаться с ним взглядом, и услышал дрожь в его голосе. Скорее всего капитану Игере поручили огласить приговор в качестве наказания за его собственные проступки… Зачем облегчать задачу любовнику Марисы, примчавшемуся спасать ее от Педро, тогда как он… Прервав свои мысли, Доминик безразлично произнес:
– Что будет со мной?
Лицо Игеры окаменело. Он откашлялся и проговорил:
– Вам не предоставят свободы и не разрешат уйти вместе с остальными. Возможно, вы уже догадались, что в бессознательном состоянии вас перевезли в другую тюрьму. Вашим сообщникам было объявлено, что вы… не выжили. Они поверили. Более того… – Игера заторопился: – После сообщения о вашей гибели они, по словам охранников, договорились между собой не причинять еще большего горя вашей невесте и сказать ей, что вы погибли в бою.
– Выходит, я больше не существую? – Он не смог сдержать горечь, смешанную с возмущением. – Бог мой, зачем так стараться оставлять меня в живых? Почему бы просто не… – Он вовремя опомнился, передернул плечами и заговорил ровным голосом: – Могу ли я узнать, как со мной намерены поступить? Или на сей раз мне готовится сюрприз?
От его сарказма Игера залился краской, но голос его остался невозмутимым:
– Об этом вас поставят в известность. Сначала уйдут американцы. До тех пор вас будут держать здесь без связи с внешним миром. Не считая моих посещений, конечно.
Почему он выделил слово «моих»? Хотел на что-то намекнуть? Дверь за капитаном давно закрылась, а Доминик еще долго стоял неподвижно, хмуря лоб.
У него было предостаточно времени, чтобы поразмыслить и взвесить каждое слово Игеры. Он непрерывно мерил шагами камеру, насколько позволяла цепь, следуя по замкнутому кругу своих предшественников. Время утратило свой смысл, превратившись благодаря окошку под потолком в бесконечную череду дней и ночей.
Доминик напоминал себе, что ему уже приходилось сиживать в тюрьмах и что эта лучше многих. Но не было еще, наверное, на свете такого узника, который не гадал бы, когда выйдет на свободу.
Его сытно кормили и не жалели воды. Проголодавшись, он ел, устав, спал, а остальное время расхаживал в четырех стенах с целью устать и снова заснуть. Такое ли существование влачили несчастные, заточенные в казематы Бастилии накануне революции? Спустя некоторое время должно было появиться чувство отрешенности, безразличия ко всему. Вопреки обещанию Игеры он не видел ни души, кроме усатого стражника, приносившего еду и питье; стражник всегда был вооружен и, входя в камеру, приказывал узнику стать к стене. Он неизменно хранил молчание и косился на Доминика как на опасного зверя. Доминик упрямился и не поддавался искушению задавать вопросы.
И все же всякий раз, когда в ржавом замке начинал поворачиваться ключ, его нервы натягивались как струны. Потом он клял себя за наивность. Болван! Зачем ждать ее появления? Ведь он считал благом ее отсутствие, говорившее о том, что она наконец покорилась здравому смыслу. Он не желал больше ее видеть, чтобы не причинять себе лишней боли этими свиданиями без будущего. Мариса… Призрак в золотом сиянии никогда его не покидал, несмотря на все усилия прогнать; не было ночи, когда она не являлась бы ему во сне. То он прижимал ее к себе, дрожащую, в мокрой форме корабельного юнги, ощущая сумасшедшее биение ее сердечка, то вальсировал с ней, вдыхая аромат ее духов и слыша перезвон драгоценностей у нее в ушах и на точеной шее, то опрокидывал на кровать, преодолевая ее ожесточенное сопротивление и наслаждаясь ею гораздо больше, чем в минуты покорности и даже взаимности, когда она отвечала на его поцелуи и отдавалась ему душой и телом…
Мариса! Боже, когда он ее полюбил? В самом начале, женившись и сбежав с ней вместе, или позже? А может, только когда стало ясно, что придется отдать ее команчам? Он желал ее с самой первой встречи. Беда заключалась в том, что он не привык любить. Этого чувства он стыдился, более того, страшился.
Избавившись от нее, он не желал знать, как она продает свое тело – то ли из мести, то ли в безумных попытках спасти его. Она с готовностью расставалась со своим достоинством, он же цеплялся за свое – ради чего?
Он надеялся, что загадочный монсеньор, ее дядюшка, увезет ее с собой. Кому, как не ему, известно лучше остальных, что она достойна совсем другой участи? Нет, он ни за что не хотел ее появления у него в камере. Монсеньор не мог не мыслить здраво, а капитан Игера скорее всего был добропорядочным малым.
«Камил был ко мне добр. Он любил меня!» Зачем вспоминать?.. Даже Филип Синклер, это ничтожество, был по-своему добр к ней. Только он, Доминик, не проявлял к ней доброты.
На сей раз попытки уснуть ни к чему не привели. Выругавшись вслух, Доминик вскочил и принялся мерить шагами камеру как тигр в клетке. Туда – обратно, туда – обратно… Дозволенное расстояние было чересчур коротким. Черт возьми, почему за ним не приходят? Когда всему этому наступит конец?
Между решетками появилась луна, ненадолго наполнившая камеру мертвенно-бледным светом, от которого лишь усилилось чувство безысходности.
Даже если она придет, он прогонит ее. Слишком долго он дразнил смерть, а теперь устал от этих игр. Человек, не имеющий в мире ровно ничего, мертвец для всех, когда-либо его знавших! Но Мариса жива, она – сама жизнь. Она способна забыть, она должна забыть, какой бы страстью ни пылало ее тело и душа. Там, в подземелье, она впервые призналась ему в любви. Но он опять ее отверг.
Почему никто не приходит? Или его оставили здесь навсегда?
В камере опять стемнело, и Доминик уже почти задремал, когда появился капитан Игера. В камеру вошел усатый охранник с факелом, за ним – посетитель.
– Мне приказано узнать, – начал капитан бесстрастным голосом, – согласны ли вы следовать за мной, не оказывая сопротивления. В таком случае я распоряжусь снять с вас кандалы. Если вы ответите отказом, я буду вынужден заткнуть вам рот кляпом. Так или иначе, вы покидаете камеру под дулом пистолета.
– Кем приказано?.. – Глаза Доминика Челленджера, у которого сна как не бывало, превратились в серебряные заслонки, не выпускающие наружу его чувства. Он пружинисто поднялся и оглядел, приподняв одну бровь, явившихся за ним людей, словно сказанное не имело к нему отношения.
Фернандо Игера всей душой ненавидел надменного узника, однако никогда не показывал этого.
– Приказ монсеньора. И самого вице-короля, также прибывшего сюда. Но вы еще не дали мне ответа, сеньор.
– Разве у меня есть выбор? Сказать по правде, мне опостылели эти цепи, как и само заточение в этой клетке. Зачем вам мое обещание, что я не сбегу и не начну звать на помощь? Ведь у вас пистолет!