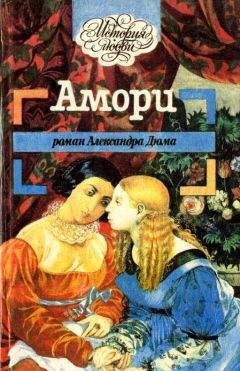Мадемуазель, Вы не знаете, кто я, я же совсем не знаю, кто Вы; но тот, кто Вас видел мгновение, может составить мнение, какая душа, нежная и пылкая, прячется за Вашей соблазнительной внешностью.
Ваш ум, конечно, так же поэтичен, как Ваша красота, а Ваши мечты так же прекрасны, как Ваши взгляды. Счастлив тот, кто сможет осуществить эти сладкие несбыточные мечты, и нет прощения тому, что нарушит эти прелестные иллюзии!»
— Я достаточно хорошо подражаю литературному стилю нашего времени, не правда ли? — сказал Филипп, удовлетворенный собою.
— Это комплимент, который я хотел бы тебе сделать, — подхватил Амори, — если бы ты не просил не прерывать тебя.
Филипп продолжал:
«Видите, мадемуазель, я Вас знаю. И Ваш тайный инстинкт, разве он Вас не предупредил, что рядом с Вами, в доме напротив, немного в стороне от Ваших оконных рам, молодой человек, владелец кое-какого состояния, но одинокий и изолированный в этом мире, нуждается в сердце, которое его поймет и поможет ему? Что ангелу, который опустился с небес, чтобы заполнить его одинокое существование, он отдаст свою кровь, свою жизнь, свою душу, и его любовь будет не капризом, таким же легким, как и смешным, но обожанием каждый день, каждый час, каждую минуту.
Мадемуазель, если бы Вы меня не увидели, Вы бы не догадались?»
Филипп остановился во второй раз, глядя на Амори, как бы спрашивая вторично его мнение. Амори сделал одобрительный знак головой, и Филипп продолжал.
«Извините, что я сумел сопротивляться этому сильному желанию сказать Вам о глубоких и очень прочных чувствах, которые появляются при одном вашем виде. Извините меня, что я осмелился Вам рассказать об этой жалкой и пылкой любви, что составляет теперь мою жизнь.
Не обижайтесь на признание сердца, которое лишь испытывает к Вам уважение, и, если Вы только захотите поверить в искренность этого преданного сердца, позвольте мне прийти и объясниться с Вами наяву, а не в холодном письме, и показать, сколько я несу в своем сердце почтительности и нежности.
Мадемуазель, позвольте мне увидеть ближе своего кумира. Я не прошу Вашего ответа, о нет, я не так тщеславен; но одно Ваше слово, один жест, и я упаду к Вашим ногам и останусь там на всю жизнь.
Филипп Оврэ, улица Сен-Николя дю Шардонре, шестой этаж, одна из трех дверей, на которой висит заячья лапка».
— Ты понимаешь, Амори? Я не спрашивал ответа, ибо это было бы слишком смелым, но я сообщил свой адрес на тот случай, если моя прелестная соседка будет тронута моей запиской и удивит меня ответом на нее.
— Без сомнения, — ответил Амори, — и это замечательная предусмотрительность.
— Бесполезная предосторожность, мой друг, как ты увидишь. Это милое и пылкое послание закончено, и теперь нужно отослать его по адресу, но как, каким путем? Я не знал имени моего божества.
Передать его через швейцара, наградив его экю? Но я слышал, что швейцары неподкупны. Рассыльный? Это было бы прозаично и немного опасно, так как рассыльный мог бы появиться, когда там будет брат. Я решил, что этот молодой человек ее брат. Вдруг мне пришла в голову мысль довериться тебе, но так как я знал, что ты более проницателен в подобных делах, я боялся, что ты будешь насмехаться надо мной. В результате письмо было написано, запечатано, положено на стол, два дня я пребывал в растерянности.
Наконец к вечеру третьего дня я воспользовался моментом, когда моя красавица отсутствовала, сел к окну и устремил взор на ее окно, оставшееся широко открытым, я увидел, что листок оторвался от ее розового куста и, унесенный ветром, пролетел через улицу и прилетел на окно нижнего этажа. Желудь, упавший на нос Ньютона, открыл ему систему мира. Листок розового куста, летящий по воле ветра, предложил мне средство переписки, которое я искал.
Я привязал мое письмо к палочке сургуча для запечатывания писем и ловко бросил его через улицу из своей комнаты в комнату моей соседки. Затем, очень взволнованный этой чрезмерной смелостью, я быстро закрыл окно и стал ждать. Совершив такой смелый поступок, я испугался его последствий. Если моя соседка встретится с братом и если ее брат найдет мое письмо, то она будет ужасно скомпрометирована. Я ждал, спрятавшись за занавеской, с сердцем, полным тоски, боясь минуты, когда она вернется к себе, как вдруг я увидел, что она появилась.
К счастью, она была одна, и я облегченно вздохнул. Она сделала два или три круга по комнате, легко, словно танцуя, как обычно, не замечая моего письма. Но, наконец, ее нога коснулась письма, она наклонилась и подняла его. Мое сердце забилось, я задыхался, я сравнивал себя с Лозюном, Ришелье и Ловеласом[53].
Наступила ночь, она подошла к окну, чтобы посмотреть, с какой части улицы могло прийти послание, которое она держала в руках, чтобы прочесть. Я решил, что наступил момент, когда можно показаться и своим присутствием довершить впечатление, какое произведет мое письмо; я открыл окно. При шуме открываемого окна соседка повернулась в мою сторону, посмотрела на меня, потом на письмо. Выразительная пантомима показала ей, что я автор послания. Я скрестил руки, умоляя ее прочесть его. Она, казалось, была в затруднении, но, наконец, все-таки решилась.
— На что?
— Прочесть его, черт возьми! Я видел, как она развернула мое письмо кончиками пальцев, посмотрела на меня еще, улыбнулась, потом расхохоталась. Этот взрыв смеха немного сбил меня с толку. Но поскольку она прочла письмо с начала до конца, я уже обрел надежду, как вдруг я увидел, что она собирается разорвать мое письмо. Я чуть не закричал, но подумал, что она делает это, без сомнения, из-за страха; как бы ее брат не нашел это письмо. Я решил, что это правильно, и зааплодировал, но мне показалось, что она с ожесточением рвала мое письмо на кусочки: на четыре, восемь, еще на шестнадцать, тридцать два, на незаметные клочки. Это было ребячество, но казалось, она хотела превратить его в атомы, а это было уже жестокостью.
Вот что она сделала, и когда кусочки стали такими мелкими, что рвать их стало невозможно, она бросила на прохожих этот печальный снег, затем, смеясь мне в лицо, закрыла окно, в то время как дерзкий порыв ветра принес мне обрывок моей бумаги и моего красноречия. И какой? Мой дорогой, тот, где написано «смешным». Я был взбешен, но так как, в конце концов, она не виновата в этой последней насмешке, то я упрекнул в таком оскорблении один из четырех ветров, закрыл окно с достойным видом и стал думать, как победить это сопротивление, столь редкое в почтенном сословии гризеток.
Первые планы, придуманные мною, были следствием состояния крайнего раздражения, в котором я находился. Это были самые жестокие комбинации и самые большие любовные катастрофы, какие потрясли мир, начиная с Отелло[54] и кончая Антонием[55]. Однако прежде чем остановиться на какой-нибудь из них, я решил, что проведу ночь в гневе, согласно аксиоме: утро вечера мудренее.