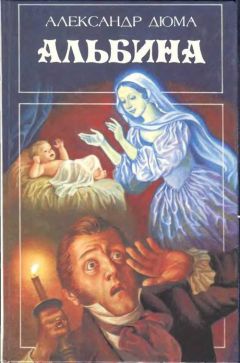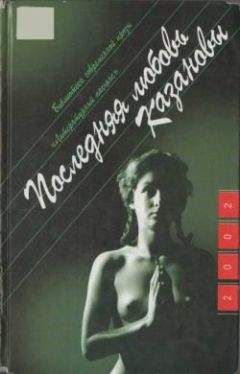Не стану говорить вам, сколько красноречия, горького, насмешливого и едкого, против нашего общества излил в этот вечер граф. Это было одно из созданий поэтов, Манфред или Карл Моор; одна из бурных организаций, бунтующих против глупых и пустых требований нашего общества; это был гений в борьбе с миром, который, будучи скован его законами, приличиями и привычками, уносил их с собой, как лев жалкие сети, расставленные для лисицы или волка.
Слушая эту страшную философию, мне казалось, что я читаю Байрона или Гете: та же сила мысли, возвышенная всем могуществом выражения. Тогда это лицо, совершенно бесстрастное, сбросило свою ледяную маску; оно воодушевилось пламенем, и глаза его заметали молнии. Тогда этот приятный голос принимал попеременно звуки то блистательные, то мрачные. Потом вдруг энтузиазм и горесть, надежда и презрение, поэзия и вещественность — все это растопилось в одной улыбке, какой я никогда не видела и содержащей в себе одной более отчаяния и презрения, нежели в самых горестнейших рыданиях.
Это посещение продолжалось не более часа. Когда граф и Поль вышли, мать и я смотрели друг на друга с минуту, не произнося ни одного слова. Я почувствовала, что сердце мое облегчилось от огромной тяжести: присутствие этого человека тяготило меня, как Маргариту присутствие Мефистофеля. Впечатление, произведенное им на меня, было так очевидно, что мать моя принялась защищать его, тогда как я и не думала на него нападать. Давно уже ей говорили о графе, и, как обо всех замечательных людях, свет высказывал о нем самые противоположные суждения. Впрочем, мать смотрела на него с точки зрения, совершенно отличной от моей; все софизмы графа казались ей ничем иным, как игрой ума — родом злословия против целого общества. Мать моя не ставила их, как я внутренне, ни слишком высоко, ни слишком низко. Это различие в мнении, которого я не хотела опровергать, заставило меня показать, что я не занимаюсь им более. Через десять минут я сказала, что у меня болит голова, и пошла в сад. Но и там ничто не могло рассеять моего предубеждения: я не сделала еще и ста шагов, как должна была сознаться самой себе, что не хотела ничего слушать о графе, чтобы лучше думать о нем. Это убеждение устрашило меня; я не любила графа, потому что сердце мое, когда возвестили о его приезде, забилось скорее от страха, нежели от радости; впрочем, я не боялась его или, логически, не должна была бояться, потому что он не мог иметь влияния на судьбу мою. Я видела его один раз по случаю, в другой раз из учтивости — и не увижу, может быть, более: с его характером, любящим приключения, с его вкусом к путешествиям — он может оставить Францию с минуты на минуту, и тогда появление его в моей жизни будет видением, мечтой — и ничем более; пятнадцать дней, месяц, год пройдет, и я его позабуду. Ожидая колокола к обеду, я удивилась, когда он застал меня в этих мыслях, и содрогнулась, услышав его так скоро; часы прошли, как минуты.
Когда я вошла в залу, мать передала мне приглашение графини М…, которая осталась на лето в Париже и давала, по случаю рождения своей дочери, большой вечер, полумузыкальный и полутанцевальный. Всегда очень добрая ко мне, матушка хотела прежде ответа посоветоваться со мной. Я тотчас согласилась; это отвлекло бы меня от странных мыслей, овладевших мною. В самом деле, нам оставалось только три дня, и этого времени едва достаточно было для приготовлений к балу; потому-то я и надеялась, что воспоминание о графе исчезнет или, по крайней мере, отдалится во время занятий, столь важных для туалета. Со своей стороны я сделала все, чтобы достигнуть этого результата: говорила с жаром, которого никогда не видела во мне мать; просила возвратиться в тот же вечер в Париж под предлогом, что у нас есть время заказать себе платья и цветы; но в самом деле оттого, что перемена места могла, по крайней мере, я так думала, помочь мне в борьбе с моими воспоминаниями. Мать согласилась на все мои фантазии с обыкновенной своей добротой, и после обеда мы отправились.
Я не ошиблась. Приготовления к вечеру, остаток той веселой беззаботности молоденькой девушки, которой я никогда еще не теряла, ожидание бала в такое время, когда их бывает так мало, отвратили невольный ужас, овладевший мной, и удалили призрак, преследовавший меня. Наконец желанный день наступил: я провела его в каком-то лихорадочном движении, которого никогда прежде не замечала матушка; она была счастлива моей радостью. Бедная мать!
Когда ударило десять часов, я, обычно очень медлительная, была уже готова. Наконец мы отправились. Почти все наше зимнее общество возвратилось, подобно нам, в Париж для этого праздника. Я нашла там своих пансионских подруг, своих всегдашних кавалеров и даже получила живое удовольствие молодой девушки, которое последнее время начинало уже стихать.
В танцевальной зале была ужасная теснота. По окончании кадрили графиня М… взяла меня за руку и, чтобы избавиться от жары, увела в отделение, где играли в карты. Это было любопытное зрелище: все аристократические, литературные и политические знаменитости нашего времени были там. Я знала уже многих из них, но некоторые были мне неизвестны. Госпожа М… назвала мне их, сопровождая каждое имя замечаниями, которым завидовали часто самые остроумные журналисты. Войдя в одну залу, я вдруг содрогнулась, сказав невольно:
— Граф Безеваль!
— Да, это он, — отвечала госпожа М…, улыбаясь. — Вы его знаете?
— Мы встретили его у госпожи Люсьен в деревне.
— Да, — ответила графиня, — я слышала об охоте и о приключении, случившемся с молодым Люсьеном. — В эту минуту граф поднял глаза и заметил нас. Что-то вроде улыбки мелькнуло на губах его.
— Господа! — сказал он своим партнерам. — Могу ли я оставить вас? Я постараюсь прислать к вам вместо себя четвертого.
— Вот прекрасно! — сказал Поль. — Ты выиграл у нас четыре тысячи франков и теперь пришлешь вместо себя такого, который не проиграет и десяти луидоров… Нет! Нет!
Граф, готовый уже встать, опять сел. После сдачи он поставил ставку; один из игроков удержал ее и открыл свою игру. Тогда граф бросил свои карты, не показывая и сказав: я проиграл, отодвинул от себя золото и банковые билеты, лежавшие перед ним в виде выигрыша, и опять встал.
— Могу ли я теперь оставить вас? — спросил он.
— Нет еще, — возразил Поль, подняв карты графа и смотря на его игру: — у тебя пять бубен, а у твоего противника только четыре пики.
— Сударыня, — сказал граф, обращаясь в нашу сторону и адресуясь к хозяйке, — я знаю, что мадам Евгения будет просить сегодня на бедных. Позволите ли мне первому предложить свою дань? При этих словах он взял рабочий ящик стоявший в геридоне подле игорного стола, положил в него восемь тысяч франков, лежавшие перед ним, и подал его графине.