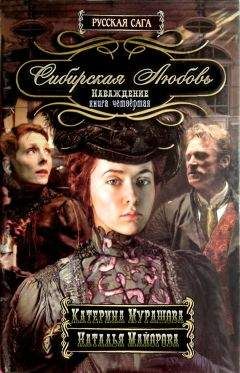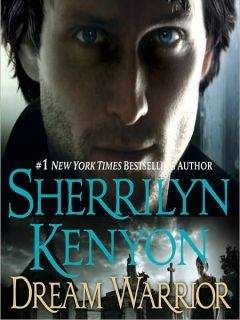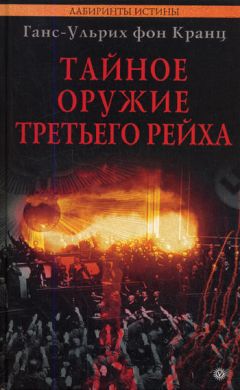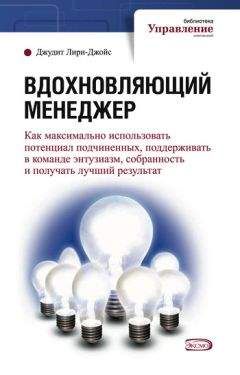А Митя держал на заимке ее портрет. Но… не объявился, не потребовал: вот – я, инженер Опалинский, и ты должна быть со мной! Почему, Господи, почему? И что б тогда было?..
Ничего бы не было хорошего, поняла она внезапно. Софи права: только она, Маша Гордеева, могла что-то исправить, и неважно, что – женщина, что неуклюжая калека, которая ходит, опираясь на палку, только от дома до церкви. Проклятая Софи права, она всегда права!
Подумав так, она метнулась было к двери: позвать Неонилу, но споткнулась о кресло, упала в него и расплакалась.
Андрей Андреевич смотрел на нее, мучаясь душевно. А она, рыдая, со злостью думала: вот и этот тоже, с ней – умные разговоры через силу, а грешить – с Надей Корониной! И сейчас наверняка вспоминает о ком-то другом.
– Марья Ивановна, – он встал, будто его тянуло что-то (чувство долга, что же еще!), наклонился над ней; она крепко взяла его за руку, – Довольно уж вам себя грызть, ничего ведь исправить нельзя. Надо жить дальше…
– Никого не осталось, – всхлипывая, пробормотала Маша, – Вера… я так и не поговорила с ней. Она сказала, ей дела нет… Гордыня… моя гордыня, знаю… Тетенька умерла, я и не заметила…
Она спуталась и замолчала, едва справляясь с дрожанием подбородка. Губы, потемневшие и распухшие от рыданий, были полуоткрыты. Измайлов помедлил, хмурясь, потом решительно наклонился и поцеловал ее.
Средство подействовало: Маша, задохнувшись, перестала рыдать, ее руки сами собою поднялись, обхватывая Измайлова за плечи. Она хотела сказать: не смейте этого делать, я только что мужа похоронила, и не надо выражать свою жалость таким оскорбительным образом! – но промолчала, точно зная, что, если она так скажет, он непременно уйдет. Да и некогда было говорить.
Да, он выражал таким образом исключительно жалость. Ему действительно становилось жалко всех женщин, обладавших талантом убивать свое бабье счастье (почему-то ему всегда встречались именно такие!). Убивать разными способами, с помощью множества разнообразных приемов, но – исключительно успешно. Он всегда понимал, что ничем по-настоящему помочь не сможет, и лучше бы ему отойти. Но как теперь отойдешь, не обидев? Да и нравилась ему Машенька – еще тогда, восемь лет назад…
– Ну и пусть… – пробормотала она спустя какое-то время, словно прочитав его мысли. – Пожалейте меня, Андрей Андреевич, пожалейте! У вас так это выходит… Я знаю, что только жалости достойна…
В ответ Измайлов, продолжая довольно неуклюже держать ее в объятиях, испустил долгий вздох. За вздохом последовала пауза, и только потом – слова, коих, разумеется, нельзя было не сказать:
– Вы, Машенька – прелестная женщина. Замечательная…
– Да?.. – протянула она с искренним удивлением.
– Безусловно. И вы должны пообещать мне…
– Нет, это вы мне пообещайте. Пообещайте, что нынче вечером мы посидим с вами и выпьем чаю. Хорошо?
Она, возможно, ожидала услышать еще один вздох – облегченный. Но он спросил:
– Отчего же вечером? Чаю выпить и сейчас можно.
– Нет. Только вечером. Я вас буду ждать, хорошо?
Конечно, вечером! То, что она собиралась ему предложить, делают вечером или ночью, но никак не днем. Так принято. И вымыться надо в лиственничной кадушке с земляничным мылом. Хорошо бы баню затопить, но это будет уж совсем как-то…
Она бросила на него быстрый напряженный взгляд и поднялась как только могла ловко – надо было уйти поскорее, пока ни один из них не сказал лишнего, убив ее внезапную решимость.
Вечер уже приближался. И осень тоже: весь день моросило, и листья в саду висели тусклые, будто неживые. Только рябина под окном светилась праздничными оранжевыми гроздьями, и от этого света в сумрачной горнице делалось уютнее. Синица, уцепившись за рябиновую ветку, клевала ягоды. Маше, стоявшей у окна, казалось, что блестящий птичий глаз поглядывает на нее насмешливо и всезнающе. Сейчас вот подцепит ягоду клювом и бросит в окно. Кажется, так уже было когда-то…
В сумерках Марья Ивановна выставила на стол, накрытый к чаю, бутылку с брусничной наливкой. Рядом – две стопки, обсыпанные темно-зеленой стеклянной крошкой. Хотела откупорить и выпить для храбрости, но вовремя вспомнила, что так тоже когда-то было. Долго размышлять об этом ей, впрочем, не пришлось, потому что появился Измайлов, решительный и мрачный, твердо намеренный поддержать вдову всеми возможными способами, дабы не допустить слишком тяжелых последствий, например, помешательства или даже наложения на себя рук (в том, что такое возможно, он был почему-то вполне уверен и – ошибался категорически.). Первые четверть часа они чинно сидели друг напротив друга за столом, даже говорили о чем-то, видимо, важном, связанном с приисками… Маша выпила стопку, потом другую. Подумала, усмехнувшись: теперь уж меня наливкой-то не возьмешь. И, внезапно отодвинув стул, поднялась, ухватилась за столешницу.
– Андрей Андреевич, вы сказали, что я – прелестная. Вы это просто так сказали? Я… конечно, никаких таких чувств не могу вызвать?
– Чушь, – резко ответил Измайлов.
– Нет! Теперь уж отвечайте за свои слова. Я должна знать…
Она задохнулась; и, низко опустив голову, начала расстегивать маленькие пуговицы на груди. Темное (но не черное, об этом она позаботилась!) платье из жесткой саржи сухо шуршало, как крылья большого насекомого. Измайлову было совестно и очень не по себе.
– Вот, смотрите, смотрите, – Маша сдернула платье с плеч. Вскинув руки, вытащила и бросила на пол шпильки, распустила волосы. В теплом свете лампы кожа на ее плечах и груди казалась совсем юной, гладкой и очень белой, почти такого же цвета, как сорочка.
Что я здесь делаю, со злостью подумал Андрей Андреевич, машинально поднимаясь. Явился, называется, утешить вдовицу… Как по́шло… И что ж с того? Она-то ждет… И, пока жива, еще надеется на что-то. Как и он сам… И это для живых людей – правильно абсолютно.
– Успокойся, Марья Ивановна, – Измайлов осторожно приласкал плечи женщины, коснулся по возрасту опавшей, но теперь бурно вздымающейся груди. – Не надо душу и платье рвать. Ты хороша еще, и всегда была хороша, и ничего в том дурного нет. Присядь. Я сейчас сам все сделаю. Раздену тебя. И все будет…
И все было.
Он шептал: «Ну милая, ну пожалуйста, не бойся…», а она только повторяла его имя, почему-то все время по отчеству, и это ей самой, и ему казалось смешным.
От его ласки светился воздух, тело становилось горячим, влажным и легким. Мешало только одно: она доподлинно чувствовала, что все, что он сейчас делает, он делает – для нее. А ему самому нужно что-то другое… Другая?