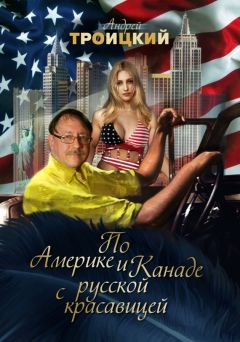«Когда бы ты остался с нами, сынок, как искусно натягивал бы ты лук! Твоя рука одолевала бы разъяренного медведя, твои ноги обгоняли бы косулю, скачущую по горным вершинам. Слишком рано ты ушел в обитель душ, белый горностай скалистого края! Как ты станешь там жить? С тобою не будет твоего отца, и некому будет настрелять для тебя дичину. Ты окоченеешь от холода, но духи не закутают тебя в звериные шкуры. Скорей, скорей вдогонку за тобой, чтобы убаюкать тебя песней, чтобы напоить тебя молоком из этой груди!»
Так пела дрожащим голосом молодая мать, и укачивала младенца, и увлажняла его губы материнским молоком, и осыпала смерть ласками, какими одаряют жизнь.
Она собиралась, по индейскому обычаю, высушить тельце сына на древесных ветвях, а потом похоронить его в могиле предков. Раздев младенца, она подышала на его ротик и произнесла: «Душа моего сына, чистейшая душа, твой отец однажды сотворил тебя, запечатлев поцелуй на моих губах, но — горе мне! — они, эти губы, не имеют власти дать тебе вторую жизнь». Обнажив грудь, она прижала к ней охладелые останки, и жар материнского сердца согрел бы их, если бы Господня воля не отняла у малютки дыхания, без которого нет жизни.
Индианка встала и глазами поискала дерево, на чьи ветви могла бы положить сына. Взор ее остановился на клене с багряными листьями, увитом апиосом и сладко благоухавшем. Одной рукой пригнув нижние ветви, она положила на них мертвое тельце, затем отпустила, и ветви взметнулись ввысь, и унесли с собой, и скрыли в душистой тени останки невинного существа. Как трогателен этот индейский обряд! Мне довелось видеть вас на ваших унылых равнинах, пышные памятники Крассам и Цезарям{23}, и до чего же милее моему сердцу воздушные могилы дикарей, эти гробницы из цветов и листвы, которые наполняет ароматом пчела, колышет ветерок, услаждает печальной песнею соловей, в тех же ветвях свивший себе гнездо! Если это тело юной девушки, уложенное на дереве смерти руками возлюбленного, или останки взлелеянного дитяти, устроенные матерью возле гнезда с птенцами, тогда подобные похороны особенно трогательны. Я подошел к скорбящей у подножия клена, возложил ей руки на голову и трижды издал вопль скорби. Потом, блюдя молчание, сорвал ветку и вместе с индианкой стал отгонять насекомых, жужжавших вокруг мертвого младенца. При этом я старался не вспугнуть сидевшую неподалеку горлинку. Индианка говорила ей: «Горлинка, если ты душа моего улетевшего сыночка, значит, ты мать, которая ищет, чем бы ей выложить гнездо. Прошу тебя, возьми эти детские волосики, мне уже не мыть их соком оспенного корня, возьми для подстилки твоим птенцам — да сохранит их для тебя вышний дух!»
Внимание чужеземца так умилило мать, что у нее потекли слезы радости. В это время к нам подошел молодой индеец. «Дочь Селуты, сними с дерева нашего сына, нам нельзя больше оставаться здесь, и на заре мы тронемся в путь». — «Брат, — сказал я, — пусть небо над тобой не заволакивается тучами и всегда будет много косуль, и бобровый плащ на плечах, и надежда в сердце. Ты, видно, не из этого края?» — «Нет, — ответил юноша, — мы изгнанники и ищем родину». Сказав это, он опустил голову и концом лука стал сбивать головки цветов. Я понял, что за этими словами скрыто много слез, и замолчал. Женщина сняла с дерева ребенка и передала мужу. И тогда я сказал: «Позволь мне нынешней ночью разжечь ваш костер». — «У нас нет хижины, — молвил воин. — Но если хочешь, идем с нами, мы разбили стоянку у водопада». — «С радостью принимаю твое приглашение», — ответил я, и все вместе мы пошли к стоянке.
Довольно быстро добрались мы до водопада, который уже издали давал о себе знать чудовищным ревом. Этот водопад образован рекой Ниагарой — она берет начало в озере Эри и, свергнувшись с высоты в четыреста пядей, впадает в озеро Онтарио. От самого истока река мчится по наклонному ложу и к моменту падения со скалы разливается настоящим морем, чьи валы подгоняют друг друга к разверстой пасти пучины. Водопад делится на два рукава и формой своей напоминает подкову. Меж рукавов высится, нависая над бурлящим хаосом вод, поросший деревьями, щелистый внизу остров. Южная ветвь водопада, обрушившись, вздувается наподобие огромного цилиндра, потом, опав, становится похожа на равнину в сугробах снега и переливается на солнце всеми мыслимыми цветами; восточный рукав низвергается в угрюмый сумрак, словно столп воды всемирного потопа. Над бездной изгибается, пересекаясь, неисчислимое множество радужных арок. Ударяясь о колеблющийся утес, вода взлетает ленными столбами, они выше самых высоких деревьев вокруг, и мнится, это к небу встает дым от полыхающего лесного пожара. Грецкий орех, сосны, скалы невиданно причудливых форм дополняют декорацию этой сцены. Орлы, подхваченные током воздуха, крутясь, исчезают в пропасти; барсуки, вцепившись в склоненные ветви, выхватывают лапами из потока утонувших вапити.
Пока с восхищением и ужасом я созерцал эту картину, индианка с мужем ушли. Немного поднявшись вверх по течению реки над водопадом, я обнаружил их стоянку, где все было под стать владевшей ими скорби. Постелью и молодым, и старым служила трава; рядом, завернутые в звериные шкуры, лежали кости предков. Я увидел за последние часы столько непонятного, что позволил себе подсесть к юной матери и спросить: «Что все это значит, сестра моя?» — «Брат мой, мы берем с собой в изгнание землю отчизны и останки праотцев», — ответила она. «Но что причиной такого несчастья?» — воскликнул я. «Ты видишь здесь всех, кто остался в живых из племени натчезов, — сказала дочь Селуты. — После побоища, которое устроили французы в отместку за своих братьев, те, кому удалось спастись от победителей, нашли пристанище у соседнего племени чикассов. Довольно долго нас никто не тревожил, но семь лун назад белые завладели нашими землями: они говорили, будто получили их в дар от какого-то европейского короля.{24} Мы возвели глаза к небу, а потом взяли останки предков и отправились в путь по пустынному краю. В дороге я родила, но от горя у меня испортилось молоко, и мой ребенок умер». Говоря это, мать осушала глаза длинными своими косами. Навернулись слезы и у меня.
Потом сказал: «Сестра моя, склонимся перед вышним Духом, ибо на все воля Его. Мы здесь только странники, странниками были и наши отцы, но для всех нас уготовано место отдохновения. Когда бы я не боялся, что ты осудишь меня за праздное любопытство, свойственное белым людям, я спросил бы, не привелось ли тебе слышать про натчеза Шактаса?» Тут индианка посмотрела на меня и в свою очередь спросила: «Кто говорил тебе про натчеза Шактаса?» — «Уста мудрости», — был мой ответ. «Расскажу тебе, что знаю сама, — молвила тогда индианка, — потому что ты отгонял мошек от тела моего сына и слова твои о вышнем Духе были исполнены красоты. Я дочь дочери того Рене-европейца, которого усыновил Шактас. Они оба — и Шактас, принявший христианство, и Рене, мой предок, изведавший столько несчастий, — погибли во время резни». «Человек шествует по стезе страданий, — сказал я, склоняя голову. — Может быть, ты что-нибудь знаешь об отце Обри?» — «Его судьба столь же горестна, как судьба Шактаса, — продолжала она. — Чироки, враги французов напали на его миссию. Их привел туда звон колокола, созывавший заблудившихся путников. Отец Обри мог бы скрыться, но он не захотел покинуть своих детей и остался с ними, чтобы смертью своей подать им пример. В тяжких мучениях он заживо сгорел на костре, но ни единым словом не посрамил своего Бога, не опозорил своей родины. Он и во время пыток продолжал молиться за палачей и скорбеть об их жертвах. Чтобы сломить отца Обри, чироки бросили к его ногам молодого индейца-христианина, сперва страшно изувечив юношу. И как же они были удивлены, когда он стал на колени и начал целовать раны священника, а тот повторял: „Сын мой, на нас смотрят сейчас и ангелы, и люди!“ Разъяренные индейцы заткнули ему рот каленым железом, чтобы он замолчал. И тогда он уже не смог утешать людей и умер.