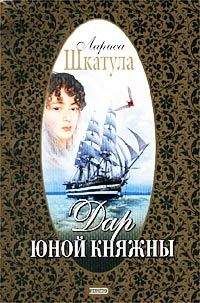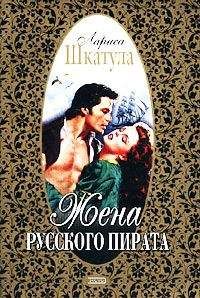— Ну и самоуверенный шкет! — возмутился Герасим. — Мне в твои годы такое бы и в голову не пришло.
— Вот потому вы только и умеете что смотреть да попусту вздыхать.
Аренский щелкнул сына по лбу.
— Опять наглеешь!.. Но идея твоя хороша: пожалуй, научим мы Ольгу кое-каким приемчикам — не только для защиты, а чтобы и в работе использовать могла: здорового мужика, например, через плечо бросить, публику повеселить… Словом, сделаем клоуном на все руки!
После обеда Иван зашел к Янеку и вкратце рассказал ему о событиях в замке.
— Юлия что-то притихла. Я её осторожно порасспрашивал обо всем; говорит, что ничего не помнит, но, может, пакость какую замышляет? Пан Зигмунд завтра должен приехать, уж он раздаст всем сестрам по серьгам. Доктор Вальтер обследовал умершего Епифана и поставил диагноз: разрыв сердца. Поудивлялся вслух: чего это вдруг покойный, что раньше не знал и где у него сердце, вдруг от разрыва сердца помер? Но поскольку все признаки налицо, решил, что, значит, так богу угодно. Сегодня похоронят.
Иван испытующе глянул на Яна:
— А как ты, вообще? Совесть не мучает? Вроде бы человека убил!
— Я думал об этом, — Ян вздохнул и пожал плечами, — но почему-то никакой жалости или раскаяния не чувствую. Может, потому что не рукой убил? Да и вдруг это вовсе не я?
— Как это? Ты же сам говорил…
— Говорил… Так Епифан же нелюдь, кат. Богу, думаю, противен был, вот он через меня его и покарал. Ты бы на висевшую Беату посмотрел, и у тебя бы жалость пропала.
— У меня жалости и нет, я просто хотел узнать твое мнение, а оказалось, что у тебя на этот счет целая теория.
— Не пойму, Иван, почему, когда я с тобой разговариваю, мне всегда хочется тебе плохое сказать. Может, обидеть даже… Ты всегда говоришь свысока, как наш хуторской куркуль Опанасенко. Так тот хоть богатый, власть имеет, а ты? Служишь своим врагам, убийце матери, вместо того, чтобы отомстить. Это я должен тебя презирать!
Иван в ярости схватил его за плечо и рывком развернул лицом к себе:
— Ты! Да я тебя…
Ян немигающе посмотрел ему в глаза.
— В гляделки хочешь поиграть? Давай, попробуем!
Боль, словно беря разбег, начала мелко пульсировать в мозгу Ивана.
— Ну-ну! Ты это брось! Здесь мне с тобой и тягаться не резон.
Он помолчал, но, видно, случившееся не давало ему покоя, а граф Головин привык все расставлять по местам и, как хороший коллекционер, снабжать соответствующими ярлыками. Ян как явление упорно выбивался из этого ряда; его слова о том, что смотрит на него свысока, граф объяснил просто: я хочу сделать, как лучше, а этот деревенский недоросль не понимает своего счастья.
— Вот скажи, Ян, как ты думаешь распорядиться даром, что послал тебе господь: другим во благо или себе в развлечение?
— Ты, Иван, как наш батюшка вещаешь! Чего это я все время должен думать, как да что? Или мне этот дар в торбе носить? — Ян понизил голос. — Честно тебе скажу: хочу маленько Юлию проучить, уж больно она заносится, пся крев, то да се! Если она и тебе нравится, могу подсобить.
— Ах ты, сопляк! — рассердился Иван и даже рука его дернулась от желания дать затрещину новоявленному всемогущему. — Подсобить он хочет. Все, до чего додумался, это как с паненкой развлечься!
— Ну, а что еще?
— Эх, рано к тебе все это пришло, понимаешь, рано! Мальчишка совсем. Что еще… А людям послужить ты не хочешь?
— Людям… Всем или каким-то одним? Что они мне хорошего сделали? Те, которые приютили, сам говоришь, плохие. А других я и не знаю. Служить незнакомым, кому ни попадя? А как я узнаю, что они хорошие? Молчишь. Сам не знаешь, а учишь. Я ведь тоже не лаптем щи хлебал!
Граф Головин, врач и философ, человек, считающий себя незаурядной личностью, растерялся. "Господи, — тоскливо думал он, — ну почему мы всегда просто принимали на веру высокие слова о необходимости служения людям и повторяли их восторженно, не задавая дурацких вопросов, а этот малограмотный деревенский парень спокойно поднимает руку на святая святых и ничтоже сумняшеся расшатывает храм высшей истины…" Тут, совсем некстати, скорее, от желания прервать затянувшуюся паузу, он спросил:
— Скажи, а что у тебя с Беатой? Любовь или так, голову ей морочишь?
— Вот, опять! Опять ты со мной говоришь, как священник. Разве каждая девушка в жизни — непременно любовь? У тебя ни одной не было или ты всех любил? В другой раз позови проповедь читать, сегодня недосуг мне.
— Да погоди ты!.. Ладно, прости, больше не стану тебя моралью изводить.
— И хорошо. Чего нам с тобой ссориться? Думаю, человек ты неплохой…
— Спасибо! — поклонился Иван.
— Смейся-не смейся, а я считаю, что в долгу у тебя. Выхаживал меня, чужого человека, как нянька. Носил на себе, хоть и граф.
— Издеваешься?
— Ладно, я тоже не стану тебя изводить. Только объясни мне кое-что; Юлия о Беате говорила так, как парень говорит о девушке.
— Понятно. В вашем хуторе о лесбийской любви, конечно, не слышали.
— О какой?
— Да, все равно не запомнишь, и в жизни вряд ли когда ещё встретишь. Тут тебе не древняя Греция. Зато в замке сможешь такое увидеть, что и в страшном сне не приснится.
— Ну, насчет грязного разврата нам батюшка часто говорил… Иван, а ты не объяснишь мне, как они это… любятся друг с другом?
— Так, теперь ещё и нездоровое любопытство.
— Что ты меня все виноватишь? Начал рассказывать, поманил и бросил. Ничего, докумекаю. Хочу с паненкой позабавиться? Да потому, что сейчас мой верх может быть. Она на меня, как на живую игрушку смотрит, сам же говорил. А мне, выходит, нельзя?
— Нельзя. Ты человек, а не волк!
— С волками жить — по-волчьи выть.
— Ты прямо философ!
— А ты… ты хуже Юлии! — Ян от возмущения не мог подобрать слов. — Та хоть и ставит меня ниже всякой скотины, но и не скрывает этого. Ты же, Иван, — или как там тебя, граф Головин? — меня презираешь, мол, темный, деревенский, безродный!
— Опять ты о глупостях. Да не презираю я тебя, у меня манера общения такая.
— Со слугами! А я тебе не слуга. И грамоте, если хочешь знать, обучен. К батюшке за шесть километров на уроки ходил… Ты вот меня с волком сравнил. А сам? Живешь, как в кустах сидишь, момент выжидаешь!
— Сижу… Ты хоть знаешь, что пан Зигмунд никогда один не бывает? Я камердинер, ему прислуживаю, обуваю-одеваю, вслух читаю, а рядом непременно кто-то из телохранителей сидит и в руках — револьвер. Выходит, он мне не доверяет? Никому не доверяет! Ты меня сразу осудил. Думаешь, я смерти боюсь? Я её уже пережил. Зигмунд мой род к вымиранию приговорил, мне же хочется назло этому выродку сына родить, и, может быть, не одного! Но вначале эту ядовитую гадину хочу раздавить. А он без своего отряда не ходит и не ездит.