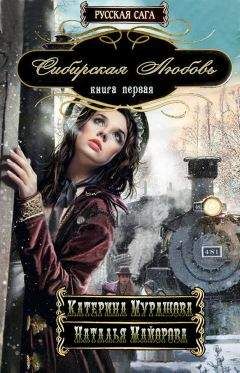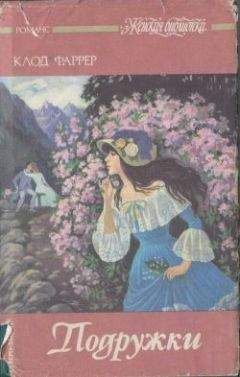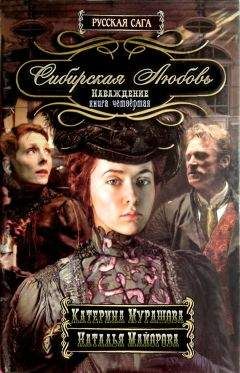Мне Каденька весьма категорически велела навещать Машеньку, которая горюет об отце и обо мне справлялась. Я сказала: “Ску-учно!”, а Каденька неожиданно разозлилась и закатилась весьма образной и продолжительной для нее речью приблизительно такого содержания:
“Меня, как особу авантюрного характера и юного возраста, несомненно, тянет к драматургии жизни. Вот как у Веры и Печиноги. Слепой не заметит, глухой не услышит, вот-вот былины сложат и песни запоют. Но, чтоб род человеческий мог жить и продолжаться, должны быть у приключений счастливые концы и после них – обычные судьбы. Как в сказках. На сем стоит наш мир, и отменить этого я не могу. Я могу избрать себе любую судьбу, и взлететь звездой или пасть ошметком грязи, но презирать землю, опору, на которой все стоит, я права не имею…“
Я даже не стала возражать, до того странным мне показался тезис о том, что Машенька и Дубравин – опора. Впрочем, Каденькин пыл не пропал даром. К Гордеевым я сходила, и провела у них вечер, играя с Петей и Сержем в подкидного дурака. Проиграла 15 копеек. Машенька вышивала рубашку (должно быть, Дубравину). Ватрушки хороши. После смерти Ивана Парфеновича явно изменился масштаб дома. Тягостно. Машеньку жаль. Дубравин пытается что-то делать на прииске (все, кроме Гордеевых и меня, до сих пор считают его Опалинским, я же, естественно, не встреваю, выполняя последнюю волю Ивана Парфеновича). Рабочие вроде пока довольны, он им какие-то послабления дал и прочее. Как он там управится без Гордеева и Печиноги, не знаю. Машенька светится, на Сержа глядя, а остяк Алеша хмурится и говорит, что все не так. Хорошо, что мне не надо во всем этом разбираться.
Недавно меня несказанно удивила Вера. Для меня уже то поразительно, что она легко говорит и о смерти Матвея Александровича, и о своей тоске по нему, и об их любви (от этих рассказов у меня по всему телу мурашки бегают, потому что Вера крестьянка и многие вещи, о которых в обществе говорить не принято, называет своими именами). Так вот, в одном из разговоров о печальных событиях она вдруг заявила, что Коронин и рабочие правы. “В чем это они правы?!” – спросила я. Вера объяснила, что та опора, которая, по всей видимости, была в мире раньше, когда честь, образование, власть и прочее было принадлежностью одного сословия, себя изжила. Это, мол, все красиво и благородно, но уже почти умерло. Надо, мол, все как-то перемешать. “А какая ж тогда основа, если все перемешано, и нет ни чести, ни благородства?” – поинтересовалась я. Вера честно задумалась, а потом сказала, что деньги, по ее мнению, вполне подходят, и даже попыталась мне эту позицию растолковать. Я не поняла, но подумала, что, даже если она права (а Вера чертовски, местами просто неприятно умна!), то я не хотела бы жить в таком мире.
Теперь, когда с Верой и ребенком все определилось, меня уж ничего не задерживает в Егорьевске. Тем более, что и деньги есть.
Так что до свидания и с надеждой на встречу, ежели ты, конечно, не позабыла вовсе свою сумасбродную подругу – Софи Домогатскую.
– Софи! Софи! Софи! Здравствуй, здравствуй, здравствуй! – Элен бежала по галерее особняка Скавронских и не утирала слез.
Софи стояла молча, отстраненная, бледная, одетая не бедно, но с совершеннейшим отсутствием того вызывающего шика, который так ясно помнился Элен в облике подруги.
Когда объятия сомкнулись, Элен почувствовала, что Софи дрожит.
– Милая, милая! – Элен покрыла поцелуями лицо подруги. – Как я скучала! Мне так много тебе сказать! Я тебе писала, писала в Егорьевск… Ты получала ли мои письма? По твоим нельзя понять…
– Они все у меня, – сказала Софи и Элен заметила, что и голос ее изменился – стал более низким и звучным. – Я их там получала, но не распечатывала. Пока назад ехала, все прочла, все знаю. Прости. Я боялась их там читать. Я знала, ты будешь рассказывать про домашних, про Петербург, про все… Боялась не выдержать… Ты понимаешь теперь?
Элен медленно кивнула.
– Как у тебя с Василием Головниным?
– Он… он мне на той неделе, в четверг предложение сделал… – Элен отвернулась, мило зардевшись.
– Что ж ты?
– Я сказала: да!
– Поздравляю. От души поздравляю. Когда помолвка, свадьба?
– Еще не решили… Но что ж обо мне?! Ты! Как это удивительно все!.. Пойдем, пойдем ко мне, я тебе покажу!
– Что же?
– Пойдем!
В розовых апартаментах Элен выдвинула ящик комода, достала большую, обитую кожей шкатулку, раскрыла ее, вытащила толстую, дорого переплетенную тетрадь в тисненой золоченой обложке, и с торжествующей улыбкой протянула ее Софи.
– Что это? – удивилась девушка.
– Это твои письма ко мне. Из Сибири. Все восемнадцать штук. Всего семьдесят девять страниц. Нравится?
– Да-а… – неопределенно протянула Софи. – Внушительная штучка…
– Штучка?! – возмущенно вскрикнула Элен. – Да это настоящий роман! Все, все над Верой с Матвеем Александровичем плакали! И когда Никанор на нее смотрел… А Кэти (помнишь ее, косенькая?) просто в Машеньку влюбилась! Ты прости, я удержаться не могла, давала девушкам читать… Все говорят, что у тебя лучше, чем у французов. Это, как хочешь, издавать надо…
– Да брось ты, – Софи пренебрежительно отмахнулась.
– Не брошу! – решительно заявила Элен. – Если ты мне право дашь, я с Васей поговорю, он даст совет, куда обратиться. Это – настоящие люди, чувства! У тебя талант!
– Ну уж ты скажешь… – Софи наконец смутилась. – Какой же роман, о чем?
– О любви, конечно! – безапелляционно заявила Элен.
– Да у тебя нынче все о любви! – снисходительно рассмеялась Софи. Она все еще помнила это состояние, хотя и не испытывала сейчас к Элен никакой зависти.
– Но ведь так и есть! – Элен изумленно подняла тонко вычерченные брови. – Все – о любви. А иначе – какой смысл?
КОНЕЦ
Старатели, промывающие золото в одиночку и продающие его в государственные лаборатории или, чаще, крупным золотопромышленникам.
Пусть консулы будут бдительны! (лат.).
Индейский вождь, персонаж из серии романов Ф. Купера.
Господин Златовратский совершенно прав. Серж близко к тексту цитирует описание императорского бала, сделанное французским путешественником Готье.
От неожиданности (лат.).
Никогда… Больше никогда в жизни… Никогда! (франц.).