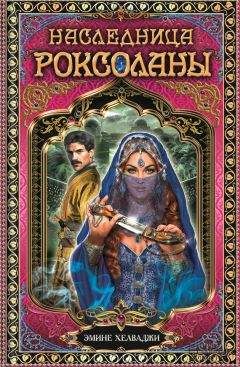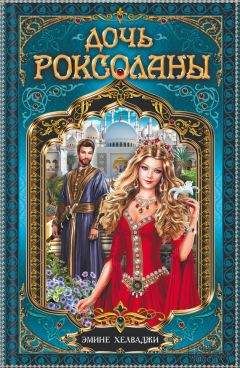Каснак-сарап обвязывают вокруг талии в несколько витков, сверху надевается просторная куртка – и вот, пожалуйста, идет по улице толстяк, в еде невоздержанный, жир на боках, как бурдюк, колышется. Что говоришь, Эрол-бей, только вчера его худым видел? Нет, ошибаешься ты, толстый этот человек, и кошелек у него толстый, вчера как раз сын его заносил, вот тебе твоя доля. Видишь же теперь, что обознался? Так-то.
– Жалею, что пообещал, – мрачно сказал Ламии, передавая бурдюк Джанбеку. – Хоть теперь скажи мне, зачем тебе такая опасная ноша? И сплетни об Адак-ханум я принес тоже, но пока не признаешься, зачем тебе это, я ничего не расскажу.
Они ушли подальше, в угол сада, ближе к реке и к их нагруженной всеми нужными предметами лодке. Бал подсматривала за парнями из окна, но в сад не спускалась – и так у Ламии лицо мрачнее тучи, думает-гадает, в какую опасность собирается влезть его «младший братик». А поймет или просто заподозрит даже, что и Джанбал, «младшая сестренка», на ту же неизвестную опасность нацелилась, вовсе с ума сойдет, все обещания нарушит, выдаст их родителям. Дороже чести для Ламии их безопасность, дороже собственной жизни. Особенно ее, Джанбал, безопасность.
Она сама не знала, как поняла это, не было ведь никаких особенных слов или взглядов, все было, как было всегда. Но знала, что не ошибается. Ламии, высокий, сумрачно-красивый, с детства привычный старший друг, и вправду чуть ли не брат, он сердце из своей груди вырвет и всю кровь отдаст по капле, если будет думать, что это ее спасет и убережет.
Бал вздохнула, отвернулась от окна. Вздрогнула: в дверях стояла мать.
Эдже вошла неслышно. Остановилась у порога – и, задумчиво улыбаясь, рассматривала дочь, как та секунду назад рассматривала Ламии.
– Когда же вы успели вырасти? – спросила она. – Я же помню, как вы рядом лежали, спеленутые, точно две куколки. Помню, как первые шаги делали. Ты утром пошла, а Бек – в тот же день, но ближе к вечеру. Помню, как вы нашли в саду мертвого дрозда и пытались его оживить, растереть, согреть, чтобы он снова ожил. Как вы плакали потом до самого вечера, впервые поняв, что смерть необратима и ждет каждого…
Мать вздохнула, подошла к Джанбал, обняла ее за плечи.
– Каждый день помню, и ваш, и свой, а все же очень быстро жизнь идет. Вроде бы и много времени, событий, мыслей каждый день вмещает, а оглянешься – ох, Аллах всемогущий, куда же годы подевались? Ведь еще вчера и мы такими были, как вы сейчас, и тоже замышляли проказы и вылазки. Опасные, конечно. Вы-то наверняка что-то опасное затеяли, я чувствую.
– «Мы»? – переспросила Джанбал. Она мало знала о семье матери, с кем та росла, кого любила раньше. Им с братом было твердо известно: о таком спрашивать не нужно. Но раз уж мать сама заговорила… – Кто это «вы», мама?
Эдже прикусила губу, будто сердясь на свою оплошность.
– Мы с Пардино, кто же еще, – сказала она. – Ох, он был отличным товарищем, даже когда был еще котенком.
У Джанбал на языке вертелись еще вопросы, но мать тут же перевела разговор на другое, давая понять, что удовлетворять праздное любопытство дочери отнюдь не собирается.
– На что ты так внимательно в саду смотрела? – спросила она, выглядывая из окна. К счастью, Ламии и Джанбека уже видно не было – то ли договорили и разошлись, то ли отошли в другую часть сада.
– На птиц, – ответила Бал. – Птицы летят. Свободные, быстрые, сильные. Все небо – их, нет им ни преград, ни законов.
Стая гусей пролетела низко, гогоча нараспев, вытянувшись длинным треугольником. Женщина и девушка долго молча смотрели им вслед.
– Помнишь, мама, ты рассказывала нам сказку про Багряную Ладонь? Про волшебника, которого подло и ужасно убили, но он годы спустя появлялся и помогал своим детям?
– Помню, – тихо отозвалась Эдже. – Конечно, помню. Тогда я сама еще не совсем ее понимала. Но теперь понимаю очень хорошо. И рада бы хуже – но не могу…
Она посмотрела дочери прямо в глаза.
– Нет в мире любви и ответственности сильнее, чем родительская. Где бы ни были дети, что бы с ними ни случилось, мать и отец всегда будут рядом. И если будет хоть малейшая возможность помочь, они с того света вернутся, всех джиннов, охраняющих посмертные врата, разбросают – и помогут, спасут, прикроют собой… Своей душой, если тела уже нет. Но пока оно есть, мы тех, кого любим, всегда носим с собой, в голове и в сердце.
Эдже погладила дочь по волосам, убрала прядь с лица, заправила за ухо, задержавшись взглядом на родинке у виска. Чему-то печально улыбнулась.
– Всегда помни о тех, кто тебя любит, дочь. Всегда.
В ночь на першембе, четверг, Джанбал спать не ложилась. Вечером со всеми попрощалась, стараясь держаться как обычно, хотя хотелось каждого обнять, прижать к сердцу, не отпускать никогда – и маму, и отца, и Ламии. И особенно Джанбека. Ох, больно ему будет, как будто она его предала. Или и вправду выходит – предала? Но ему нужно остаться дома, с семьей, с Пардино. С Ламии. За ними приглядывать, их радовать. Нельзя же у родителей сразу обоих детей отнять.
Один глаз человек потеряет – больно будет, но человек этот останется тем же, самим собой. Обоих глаз лишится – и жизнь изменится навсегда, прежнего себя он оставит во тьме, никогда больше не найдет.
Так и с родителями. Хотя бы один из детей должен у них остаться. Пусть это будет Бек.
– Послезавтра? – спросил Джанбек тихо.
– Послезавтра, – чуть кивнула Джанбал, мысленно снова прося у брата прощения.
Она выскользнула из дома поздним вечером, когда домашние еще не уснули, но уже разошлись по своим комнатам. Если с кем столкнется, скажет, что не спится ей, что хочет посидеть в садовой беседке. Такой же, как та во дворце, в которой они с братом ночевали, когда были совсем детьми. То есть целый год назад.
Да и в родном чифтлыке у них такая же беседка. Однако же не проводить им там больше ночей, даже если Бал вернется живой после… После. Из детства они перешагнули в юность. Пора им обретать привычки совершеннолетних: если не на реке, наедине друг с другом, так в доме, в городе, меж всех прочих людей.
Ночью из дома труднее выйти тихо – каждый звук слышен, каждый шорох, да и мимо комнаты Джанбека на мужской половине дома так просто не пройти. Там сегодня спит Пардино-Бей: насторожится, вскочит, разбудит брата. Ему-то, Пардино, не объяснишь, не обманешь его. Так что лучше уж с вечера улизнуть, пожертвовать последними часами уюта, тепла, привычного домашнего быта…
Бал долго сидела в беседке, ежась от ночной прохлады. Чтобы не поддаваться невеселым мыслям, которые так и норовили наброситься, она снова и снова представляла завтрашний день – что надо сделать, кому как отвечать, как держаться.