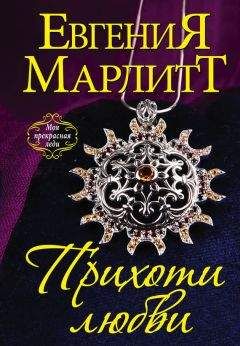– Она все еще красива, – проговорила фрейлина, довольно сдержанно отвечая на поклон фрау фон Берг. – И, боже мой, не может же она быть вечно молодой!.. Погодите, Пальмер, впервые я ее увидела тринадцати лет в Баден-Бадене у графини Шамбор. Потом она приехала со своим старым мужем в резиденцию и говорила, что для нее полезна перемена воздуха. – Легкая насмешка скользнула по добродушному лицу старой дамы. – Я не хочу сказать о ней ничего дурного, но очень коротким было время ее блеска: через год герцог женился и с этого времени сделался примернейшим супругом.
– О глубокоуважаемая, его высочество всегда следовал по стезе добродетели, как и теперь, как и в это самое мгновение; кто же может в этом сомневаться?
Старая дама пристально взглянула в смеющееся лицо соседа, и краска недовольства покрыла ее щеки.
– Оставьте свой сарказм, Пальмер! – воскликнула она. – В том, что вы подозреваете, нет ни искры правды. Клодина Герольд…
– Ах, можно ли сказать что-нибудь против Клодины Герольд, чистейшей из чистейших женщин? – возразил он и поднял шляпу над своей лысеющей головой.
Госпожа фон Катценштейн еще сильнее покраснела и закусила губу: «Этот Пальмер настоящий вьюн, которого никогда не поймаешь, Мефистофель, Тартюф…» В своем гневе она не могла найти достаточно сильных выражений для ненавидимого всеми любимца герцога.
– Вот мы и приехали, – между тем сказал он, указывая рукой в узкой перчатке на расстилавшуюся перед развалинами лужайку, где песочные дорожки казались кружевом, наброшенным на темно-зеленый бархат. Над башней, выступавшей из густых вершин деревьев, вились и сверкали на солнце, как серебряные блестки, голуби Гейнемана, а сквозь низкие ветви кустов пестрели садовые цветы. – Действительно, многоуважаемая, этот Совиный дом – настоящая идиллия, уголок, будто нарочно созданный для того, чтобы мечтать в нем о будущем счастье.
На площадке пристройки звучал смех, но не тот гармоничный смех, который срывается обычно с прелестных женских уст, а несколько другой, слишком громкий, но такой светлый, что усердно писавший в колокольной комнате человек прислушался, и тихая улыбка расцвела на его сперва выразившем недовольство лице.
Как уверенно, честно и здорово звучал этот смех, и так смеялась Беата, эта «варварская женщина». Ее смех странно привлекал его, напоминая лесной ключ, который бежит по камням и обрывам… Замечательный смех! Он снова взялся за перо, но смех все еще продолжал звучать в его сознании.
Внизу, в тени старого дуба, Беата вытирала слезы, вызванные приступом веселости. Она сидела рядом с Клодиной на скамейке, красиво устроенной Гейнеманом из грушевых стволов, и учила ее шить на машинке. Маленькая блестящая швейная машинка стояла на зеленом столике, и прекрасные руки бывшей фрейлины старались совладать со сложным механизмом.
– Это так смешно выходит у тебя, Клодина, – смеялась Беата, – но, дорогое дитя, здесь давным-давно нет нитки, а ты продолжаешь шить с настоящим азартом! Смотри, вот она! Теперь хорошо.
Молодая девушка в светлом платье сидела, вся красная от усердия.
– Терпение, Беата, я скоро выучусь, – сказала она, рассматривая шов. – Тогда я стану помогать тебе в твоей работе.
– Этого еще недоставало! – возразила Беата. – Полон дом баб, которые толкутся без дела, а ты станешь мне помогать, когда у самой так много работы. В свободное время ты должна заниматься музыкой и рисованием. Но я возмущена другой, а именно Берг. Ты, может быть, думаешь, что она вяжет чулки для ребенка? Недавно я вошла к ней с мотком самой лучшей нашей шерсти и сказала: «Вот, моя милая, уже теперь надо позаботиться о ребенке – здесь в горах холодно зимой». Она побледнела от злости и ответила: «Ее светлость, принцесса Текла, не примет самой малой заботы о гардеробе внучки, и вообще шерстяные чулки вредны». – «Вот как, – спросила я, – разве у меня или у отца ребенка вид нездоровый?» А мы, моя милая, в детстве не носили ничего, кроме домашних шерстяных и льняных изделий, так и выросли. Она не посмела возразить, но какое сделала лицо! Старалась скрыть свою злость, только заметила очень холодно, что принцесса дала ей весьма строгие предписания… Господи боже мой! Почему Лотарь так глуп? Ведь он отец! Когда я все ему рассказала, он пожал плечами и промолчал. Дали бы мне на месяц измученное дитя, оно живо стало бы таким, как эта толстушка!
И она указала на девочку, которая сидела за маленьким столиком и усердно разбирала чашки и блюдца, которые тетя Клодина достала ей из своего детского шкафа.
– Впрочем, – продолжала Беата, – и тебе идет впрок правильная деревенская жизнь, погляди на себя теперь! Глаза так и блестят, а на щеках снова появился легкий румянец, который исчез при дворе. Счастье, дорогая, что здесь нет никого, кому можно вскружить голову, а то…
Клодина с улыбкой нагнулась над машинкой и вертела колесо. Она не заметила ни внезапного молчания Беаты, ни удивленного, почти испуганного взгляда, с которым та смотрела на шоссе. О боже! Из-за деревьев показались красные с золотом ливреи придворных лакеев.
– Клодина, взгляни, – вскрикнула она, – что это за господа? Они подъезжают сюда!
Клодина вдруг откинулась на спинку скамейки, как будто ей стало дурно, и чуть ли не с ужасом смотрела на остановившиеся экипажи; по средней дорожке бежал Гейнеман, снимая на ходу фартук и застегивая старую ливрею. Окна в комнате фрейлейн Линденмейер зазвенели, а Беата собралась бежать, но остановилась, взглянув на Клодину.
– Что с тобой? – прошептала она и взяла девушку за руку. – Пойдем, надо их встретить, или тебе дурно?
Но девушка уже овладела собой. Она поспешно сошла вниз и уверенно направилась к садовой калитке; казалось, что она шла по блестящему паркету на придворном балу и что на ней было не простое летнее платье с черным фартуком, а пышный придворный туалет из голубого бархата, в котором она недавно очаровала всех присутствующих. Беата следила за ней с изумлением. Как грациозно склонилась ее прелестная фигура, как скромно наклонила она красивую головку, которую поцеловала герцогиня.
Беата перегнулась через перила, чтобы рассмотреть остальных. Боже, рядом с герцогом стоял ее брат, и все они направлялись к дому. Клодина вела герцогиню под руку.
Фрейлейн Линденмейер совершенно растерялась. Она стояла перед зеркалом и надевала чепец с красными лентами, казавшийся столь же жалким, как и его владелица, которая никак не могла приколоть его трясущимися руками. Старая дева имела очень смешной вид: она уже надела черный лиф, но забыла юбку, оставшуюся висеть перед широко открытой дверью. Старушка дрожала, как осиновый лист.