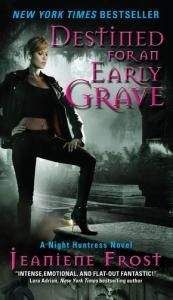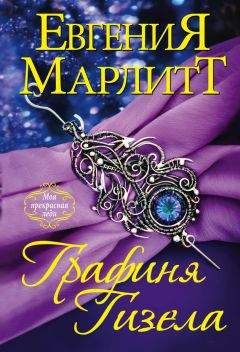Незаслоненный с одной стороны свет лампы поможет нам яснее рассмотреть горного мастера. Это необыкновенно красивый мужчина величественного роста. Казалось необъяснимым, каким образом мог он двигаться в этой низкой комнате, потолок которой почти касался его кудрявой головы. Странный контраст представляли между собою светлые, пепельного цвета волосы с черными бровями, которые срастались над переносицей и придавали лицу необыкновенно меланхолическое выражение. По народному поверью подобные лица носят на себе печать несчастья, неопровержимое пророчество горестной участи, которая их ожидает в будущем.
Постороннему наблюдателю никоим образом не пришла бы мысль принять больного за кровного родственника этого высокого мужчины. Там юношеское, бледное, алебастрового оттенка худощавое лицо с римским профилем, обрамленное густыми, черными, как вороново крыло, вьющимися волосами, здесь — истый германский тип, мужчина с русою бородой в полной свежести и силе, стройный как пихта, соотечественница его, растущая на родных горах. Это разительное несходство в наружности не мешало, однако, братьям сходиться во всем остальном.
Горный мастер быстро подошел к постели, приподнял свесившееся на пол одеяло и укутал по самые плечи больного; затем поднес к его губам отодвинутую чашку с питьем. Все это сделано было молча, но с выражением такой строгости, которой волей-неволей приходилось подчиняться. Возмутившийся пациент притих; как бы по обязанности осушил он до дна поднесенную чашку; затем в каком-то нежном, страстном порыве схватил руку брата и, проведя ею по своей щеке, опустил к себе на подушку.
Тем временем человек в солдатской кавалерийской шинели подошел ближе.
— Ну, молодой человек, так этаким-то образом вы изволите располагаться на постое? Эх, стыдитесь, — прибавил он, ставя фонарь на стол.
В приветствии этом звучал только юмор; но необыкновенно грубый и резкий голос говорившего придавал ему тон крикливого наставления. Впечатление усиливалось еще более бессменно суровым выражением лица, ярко-красным полушерстяным платком, повязанным вокруг головы и своим темным оттенком напоминавшим цыганский.
Больной приподнялся, внезапная краска разлилась по его бледному лицу, и взволнованный взор сурово и вопросительно остановился на вошедшем, которого больной доселе не заметил. При этом рука его машинально протянулась к лежащей на столе студенческой фуражке со значком той корпорации, к которой он принадлежал.
— Не беспокойся, Бертольд, — улыбаясь этому движению, проговорил горный мастер. — Это наш старый Зиверт.
— Э, да разве молодцу известно что о старом Зиверте? — отрезал человек в солдатской шинели. — Такой лихой парень, чай, позабыл, какова на вкус детская размазня, не так ли, господин студент? А вот как раз на этом самом месте, где вы теперь легко лежите, стояла тогда люлька, а в ней барахтался крошечный мальчуган и криком звал свою умершую мать. И у отца, и у Розы, подступавших к нему с размазней, была выбита из рук ложка, — уж не знаю, почему понравилось вам тогда мое лицо, и вот посол за послом командировались в замок, и Зиверт должен был кормить кашею молодца… Да уж и как же малый был доволен тогда! Слезы катились еще по щекам, а каша благополучно отправлялась куда ей следовало.
Студент протянул через стол обе руки к говорившему. Смелость, отражавшаяся дотоль на его отроческих чертах, уступила место женственному, почти детскому выражению.
— Мне нередко рассказывал об этом отец, — проговорил он мягким голосом, — ас тех пор как Теобальд стал горным мастером в Нейнфельде, так и он часто писал мне о вас.
— Так-так, может статься, — проговорил Зиверт, желая, по-видимому, положить конец этому разговору.
Он распахнул шинель, и странный его вид заставил рассмеяться студента. На правой руке висел у него котелок из белой жести с ручками, рядом с ним плетенная из ивовых прутьев корзинка, в которой лежал хлеб; к пуговице сюртука прицеплена была связка сальных свечей, из бокового кармана выглядывала стеклянная пробка от графинчика с ромом вместе с чем-то, завернутым в бумагу, — Да, да, смейтесь! — сказал старик. На этот раз в голосе его звучала действительно немалая доля озлобления, но к этим грубым ноткам в то же время примешивалась как бы некоторая покорность.
— Тогда привелось быть нянькой, — продолжал он, — а теперь исполнять должность поваренка… Положим, и мой отец убаюкивал меня в колыбели… Ну, да что тут говорить… Старая барыня не пьет козьего молока, что барышне Ютте так же известно, как и мне, даже лучше… А не подумай я о том, чтобы принести коровьего, так и осталась бы ни при чем… Сегодня устал до смерти, был в лесу, нарубил там порядочную вязанку дров и рад-радешенек, что будет чем истопить комнату, — а о молоке-то и забыл; в шкафу ни крошки хлеба, в подсвечнике догорает последний огарок. А барышня Ютта в таких попыхах, точно дело идет о придворном пире у мароккского императора, и то и дело поминает об «обществе, которое соберется к чаю». Только этого нам не доставало в Лесном доме! Желательно знать, о чем она стала бы говорить с господином студентом! Разве о…
Во все продолжение этой речи яркая краска не покидала лица горного мастера. При последнем восклицании он с угрозою поднял указательный палец и таким гневным взором взглянул на старика, что тот робко опустил глаза и смолк, не окончив речи. Студент же, напротив, представлял собой самое сосредоточенное внимание, — обе руки его неподвижно лежали на столе, он не сводил глаз с губ говорившего.
— Вот и крестьянского хлеба я не мог принести к обеду старой барыни, — продолжал Зиверт после небольшой паузы. — Бегал в Аренсберг, и управитель замка, volens nolens[1], должен был поделиться со мною этим. И у него там идет голова кругом. В кухне распоряжается повар из А.; с полдюжины служителей изо всех сил возятся там, чистят, топят, зажигают огни — его превосходительство, министр, несмотря на бурю и снежную метель, сегодня вечером пожалует в Аренсберг. В А, и в особенности в его собственном доме появился тиф, так вот он и хочет спасать маленькую графиню в пустынном Аренсберге.
Тень глубокого неудовольствия пробежала по прекрасному лицу горного мастера. Он быстро зашагал по комнате.
— И вы не знаете, как долго хочет пробыть здесь министр? — спросил он, останавливаясь. Зиверт пожал плечами.
— А кто его знает, — проговорил он, — Я со своей стороны думаю, что дело-то тут не в ребенке, а в собственной священной особе превосходительства; он будет ждать, пока непрошенный гость не уберется из А.
Эти сведения, очевидно, не были приятны молодому человеку; он в задумчивости остановился на минуту среди комнаты, не сделав, однако, дальнейшего замечания.