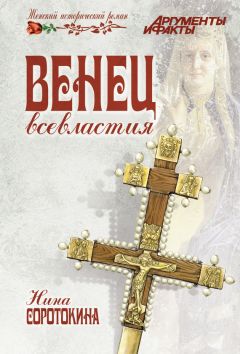Подтянул штаны и вслушался в себя — пропал ли страх? Ничуть не бывало. Все на месте, волоски на спине стоят дыбом, как у зверя. Страх — это капкан. Не-ет… из ванной он ни ногой. Сюда она не явится, это ясно. Тесно в ванной царицам. Он сунул голову под холодную струю, потом сел на бортик ванны. Капавшая на пол с волос вода оживила слуховые галлюцинации — дождь, стучащий по жести подоконника. А может, не по жести, из чего они там в пятнадцатом веке делали подоконники?
И тут же перед глазами всплыла ограниченная рамкой картинка с говорящими головами, как в телевизоре, все та же царица, та же старуха. Потом рамка раздвинулась и обозначилась печь с изразцами и окошко с наборными слюдяными пластинами. Все это сильно смахивало на иллюстрации Билибина, и только шум дождя был настоящий. Старуха кончила убирать тяжелые, в рыжину волосы и с трудом надела на большую голову Софьи кичку. Сбоку упал свет на дощатый пол. В комнату вошла Елена Волошанка, стройная, красивая, в драгоценном венце поверх плата, завязанного узлом на затылке. Плат шелковый, цвету салатного. Ким откуда-то знал, что он называется ширинка. Из каких глубин памяти всплыли эти названия — ширинка, летник, накапка, ткань, крученой золотой нитью шитая — аксамит. Ладно, ширинка — пусть, но откуда он знает, что эту зеленоглазую зовут Елена Волошанка?
Софья исподлобья оглядела вошедшую.
— Ты нарочно надела венец, чтоб позлить меня?
— Царица, — поклон в пояс, — я надела венец, потому что это подарок государя.
— Это мой подарок, слышишь. Мной подаренный… и не тебе, змея.
— Ах, кабы слышал нас сейчас государь, — усмехнулась Елена. — Не боишься ли ты меня чернить? Не боишься, что расскажу ему об этом?
— Не посмеешь! — топнула ногой Софья.
А старуха, согнувшись в три погибели, словно и не слышала перебранки, продолжала пристегивать к накинутой на плечи царицы мантии крупные, драгоценные камни. Для этой цели, оказывается, на мантию были нашиты пуговки величиной с горошину. Их отлично можно было рассмотреть.
Смарагды и яхонты были вставлены в грубую оправу со специальной петелькой. Память прошлой жизни услужливо подсовывала крупный план.
На золотой этой петельке сцена вдруг расплылась перед глазами и померкла. Он опять таращился в голубой кафель, а зубы выбивали дробь от холода и страха. Макарыч предупреждал, что последствия могут быть самые непредсказуемые. «Солярис» и научно-фантастический бред здесь ни при чем. А реальны здесь — нечистая сила и серный дух. В нечистой силе Макарыч не разбирается, а потому и предсказать ничего подобного не мог. Ким принюхался. Стыд, срам! Может, он и не атеист в чистом виде, но не окончательный же дурак! Но икона здесь не помешает. Без иконы он не доживет до утра.
Выпить надо, вот что! Теперь уже не ползком, а в рост, на ногах, как люди, он прошел на кухню. Бутылка была пуста. Он хотел метнуть ее в окно, но сдержался. Осень на дворе. Оставьте меня в покое. Я не хочу жить в вашем мире. Я вообще не хочу жить. Стоп… Это уже вранье.
Он знал, что делать. На антресолях в коридоре мать спрятала скарб покойной няньки. Где-то там стоит ее мятый баул с платком пуховым и парой юбок, а на дне — старая икона. За баульчиком должна была приехать нянькина сестра из деревни, да так за пять лет и не собралась. Иконку эту облупленную с Николаем-угодником он сейчас и найдет, выпростает в свет божий, поставит на стол и свечку запалит. Как-нибудь до утра с Угодником и дотянем.
Ким достал заляпанную масляной краской стремянку, поставил ее у стены и понял, что на самый ее верх он не сможет залезть. Стремянка была Эльбрусом, загадочной горой… в Гималаях, нет на Кавказе… кажется. Совсем разум потерял! Что он — альпинист, чтобы преодолеть такую высоту. Он ноги-то не может распрямить, и еще эта противная, как тик, дрожь в голенях. Опять пришлось совать голову под воду, на этот раз на кухне, ванную он панически боялся.
Если умирать не хочется, то и на Эльбрус можно взгромоздиться. С неимоверными трудностями он добрался до вершины и, уперев колени в верхнюю стойку, стал рассматривать ландшафт антресолей. Нянька говорила любовно: «Просторный у нас чердак, даром, что городской. Три гроба рядком встанут». И никакой это не юмор, а ее осмысление мироздания.
Антресоли в пору архитектурных излишеств и впрямь делали просторными. А уж барахла туда натолкали, до нянькиного баула и не досвистеть. Скорей всего, он прячется где-то у задней стенки. На первом плане Китайской стеной высились «Новые миры» и прочие журналы, дальше — невесомые картонные коробки и узлы с барахлом, рулоны обоев — ошметки ремонта, потом ящик с керамической плиткой, когда-то, еще до армии, он сам туда его взгромоздил. Была силушка-то, была, куда только все подевалось. Ящик не сдвинешь, надо идти в обход. За узлом — связка дрянной бумаги, чья-то отстуканная на машинке рукопись, видимо, самиздат. Далее синяя коробка с елочными игрушками. А вон уже и клетчатый нянькин баул виднеется.
Сколько же здесь пыли, паутины, моли! Мать все-таки удивительный человек! Она сторонница всего нового. В доме компьютер, музыкальный комбайн, лазерные диски, видак со скучнейшими фильмами, механическая мясорубка и яйце-взбивалка, а здесь, наверху, мертвечина, кладбище забытых вещей. Почему она не выкинет эти старые халаты и шубы? Великолепный фасад и гнилой задник. И он, ее сын, тоже задник, сродни антресолям. Оттого-то она и прячет его от людей. Он сбросил журналы на пол, туда же полетели обои. Стремянка под ногами ходила ходуном. Вдруг связка самиздата, которую он беспечно переместил сверху на узел, поползла вбок, норовя столкнуть на пол коробку с елочными украшениями. Стараясь спасти святые воспоминания детства — всю эту хрупкую пеструю, золотую мишуру, он с негодованием оттолкнул бумаги. Но в следующий момент нога вдруг предательски соскользнула со ступени, стремянка накренилась и, судорожно схватив коробку с игрушками, он рухнул вниз. Вслед за ним последовала чертова связка. Не долетев до пола, рукопись зацепилась бечевой за крючок на стремянке, гнилое вервие лопнуло, и листы грудой посыпались Киму на голову.
Игрушки были спасены, но какой ценой! Щека кровила, на лбу немедленно вскочила шишка, нестерпимо болело колено. Господи ты боже мой, как же погано все! Зачем он, идиот, напился? Паскудство все это! Одно хорошо, страха не было. Улетучился. Он неуверенно хохотнул. Может быть, обойдемся без иконы? В определенных случаях жизни одно воспоминание о мандаринах на еловых ветках тоже может излечить.
Отплевываясь, он встал на колени, потом сел, осмотрелся. Уборки на день. Колено, дьявол! Только бы не было перелома. Он согнул ногу. Вроде работает. Очень хотелось курить. Лениво через плечо он бросил взгляд на листки неведомой рукописи. По печатному тексту прошелся красный редакторский фломастер. А может быть, сам автор правил свое творение. Из глупого любопытства он прочитал первую строку: «Италия не была родиной Зои Палеолог, нареченной на Руси Софьей…»